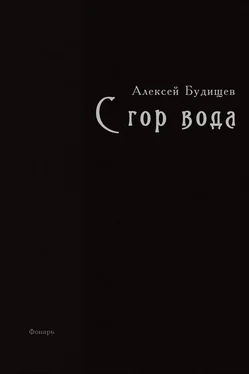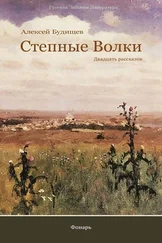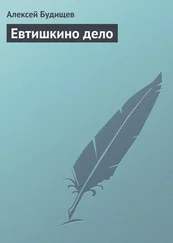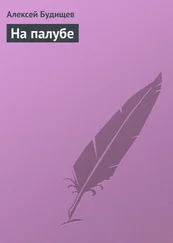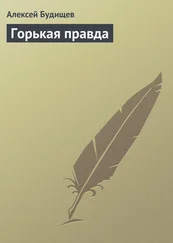— Я одну тебя здесь не оставлю!
И опять долго и напряженно думал.
И опять сказал с мучительным стоном:
— Я одну тебя здесь не оставлю!
Шире раскрыл он глаза, оглядывая свое близкое будущее.
На луговине хором под серебряные стоны гитары запели «Ночи безумные»… Всех истомней томился в песне голос Валентины Михайловны.
Столбушин сидел и думал. Все думал и думал. Оборвалась песня, замолк хор. Только два голоса, обнявшись, умирали в сладостных муках над луговиной. Узнал Столбушин эти два голоса.
— Меня заживо отпевают, — глухо проворчал он. — Так, что ли?
Когда он проходил двором, в кухне ласково и заискивающе звучал голос Ираклия:
— Вот видишь календарь, — говорил Ираклий, очевидно, повару. — Видишь? Вот 23 сентября. Видишь? И тут даже нет и креста. Ни только что креста в круге. Видишь? Вот!
— Ну ладно, ладно, — ворчал повар, — хотя я твоим статским календарям не очень-то верю. Ты вот покажи-ка мне синодальный календарь!
— Какой такой синодальный?
— Очень просто: календарь, подписанный всеми митрополитами.
— Что же, мне за ним в Питер, что ли, ехать? — огрызнулся Ираклий.
— А уж это как хочешь!
Столбушин позвал Ираклия. И когда тот почтительно приблизился к нему, он, закашлявшись, завизжал неистовым скрипучим криком:
— Затопи мне печь на ночь!
И опять закашлялся. Ираклий видел, что он плохо передвигал ноги.
«Ужели выпимши?» — удивился Ираклий.
Под треск печи Столбушин долго сидел в кресле и, брезгливо топыря губы, все думал о чем-то. Не слышал звонков разъезжавшихся троек. Ничего он не слышал и не видел.
В двенадцать часов вошла к нему в спальню Валентина Михайловна, розовая, счастливая, но и усталая.
— Уф, — вздохнула она, — только что разъехались гости. Устала я с ними! А ты как себя чувствуешь? Как будто бы на вид лучше, чем всегда? — мягко спросила она мужа. — Да?
— Лучше, — однотонно и жалобно ответил Столбушин.
Вид гордого и прекрасного тела жены как будто на минуту поколебал в нем думы.
— Только вот зябну я все, — жалобно добавил он.
— Оттого, что сильно исхудал. Это понятно, — заметила жена. — Велел бы протопить печь!
— Да уж топили, — кисло пожал плечами Столбушин.
— Так вели протопить еще, охота же зябнуть.
— Прикажи Ираклию, — хило попросил Столбушин.
Валентина Михайловна распорядилась. Снова затрещали дрова в нарядной лепной печи. Столбушин все сидел в кресле. За розовыми ширмами послышался шорох женских одежд, — Валентина Михайловна уже раздевалась.
— А ты что же? — спросила она мужа из-за ширм.
— Я сейчас, сейчас, — словно бы заторопился тот. Его голос звучал жидко и хило. Послышался скрип пружин за ширмами. Валентина Михайловна сказала:
— Я чуть-чуть почитаю, а потом баиньки. Ну, что же ты не пожелаешь мне доброй ночи? Нехороший ты, злой!
В тоне ее голоса слышались детский каприз, хорошее расположение духа и приятная усталость.
— Покойной ночи, — выговорил Столбушин мягко, — а я сейчас пройду к Никифору, — вдруг добавил он с поспешностью, — надо распорядиться насчет выездки лошадей… Ах ты Господи, — закряхтел он.
— А разве ты не хочешь поцеловать моей руки на ночь? — шаловливо и радостно протянула Валентина Михайловна.
— Сейчас, сейчас, — опять заторопился Столбушин.
И, поцеловав руку жены, он вышел на двор. Но тотчас же с крыльца он повернул не к кучеру, а к флигельку, где жил Ингушевич. Окно его спальни светилось. Из-за угла Столбушин заглянул в это окно и увидел Ингушевича. Тот сидел в одном белье за столом, очевидно задумавшись, и чему-то ярко улыбался. Какому-то радостному видению. В бурном неистовстве Столбушин припал к этому окну всем лицом.
— Кто там? — беспокойно окрикнул Ингушевич.
Столбушин спрятался за угол, сипло переводя дыхание, ляская челюстями. Он слышал: скрипнула дверь, Ингушевич с крыльца посвистал собак. И, подождав, ушел обратно. Столбушин подумал:
«Только бы она скорее уснула!»
И понуро доплелся к той луговине у озера. У самой воды озера он опустился и глядел на лопухи. Бродил взором по дымившимся лугам и небу. Стыла земля без единого звука, дымясь паром, как усталая рабочая лошадь. Месяц жег факелом строгие тучи, но те не загорались, а только делались краше.
— Только бы она поскорее уснула, — вздохнул Столбушин.
И стал слушать едва уловимое стенанье натруженной земли.
— И я устал, — прошептал он, — ох, устал!
Когда он вошел в спальню, за розовыми ширмами на ночном столике горела свеча. Не колеблясь и прямо стояло пламя. Уронив книгу на пол, Валентина Михайловна спала. Ровно и сладко было ее дыхание. Яркие губы точно улыбались. Полуобнажилась гордая, сытая радостями грудь. Столбушин оглядел ее, прислушался и потушил свечу. Все лицо его сморщилось, сплюснулось и заморгало.
Читать дальше