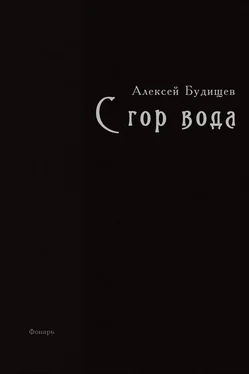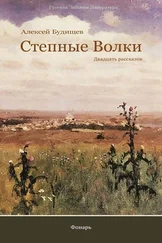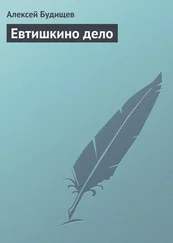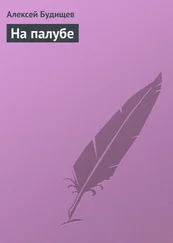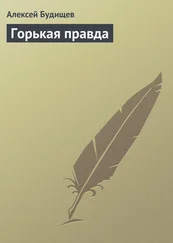— Ну и поезжайте в Абиссинию целовать эфиопок!
— Увы, это для меня потеряло прелесть новизны! — вздыхал Замшев.
Истомившаяся в одиночестве Валентина Михайловна всей душой погрузилась в веселье, хмелея от него, как от вина. Ее голову точно кружило сладостными вихрями, зажигая все тело жаждою радостей. И осенний солнечный день был так безмятежен, ясен и детски-невинен, что все печальное забывалось, как несуществующее, и сердце билось лишь настоящим мгновением.
«Хорошо жить, — думала она, — о-о, как хорошо!»
Перед обедом катались в парусных лодках, бесшумно и быстро скользили, точно летали в небесах. Ингушевич красиво и печально пел:
Раздели ты со мной мою долюшку…
Голос его плакал и умолял. Как виртуоз, аккомпанировал ему на гитаре Замшев. И музыка заколдовывала сердца. Суля радость, умоляла волшебная:
— Живите!
X
А Столбушин сидел у себя в спальне, у окна, в глубоком кресле. Одетый в беличью куртку и высокие бурочные сапоги, он все-таки зяб и прятал ладони в рукава куртки. Каждый из приезжавших приходил к нему поздороваться и каждый считал своим долгом сказать ему несколько наивно-безразличных слов. И он прекрасно видел по выражению лиц посещавших его, что всех уже тяготит эта обязанность бросить ему, как милостыню, несколько пустых слов, что всем тяжело с ним, как в гостях у разлагающегося трупа. Померанцев, высокий и худой, с тонкими и висячими, как у китайца, усами, сидел у него дольше всех и наговорил ему больше всех пустых и глупых слов. И Столбушин хорошо понимал истинные причины необычайной длительности этого визита. У Столбушина в руках было несколько срочных векселей Померанцева. И чтоб утешить его — Столбушин находил в этом какое-то особенно острое, злорадное удовольствие, — он сказал тому:
— А насчет уплаты по векселям вы не хлопочите. Я их сжег. Что же им путаться после моей смерти среди настоящих ценных бумаг? И всего-то их на три с половиною тысячи.
Померанцев видел по его глазам, что он не лжет, и подобострастно схватил Столбушина за руку.
— Благородное сердце! — заболтал он, как плохой актер. — Рыцарь среди купечества! Ах, мои дела очень плохи!
— Сжег я ваше чистописание вот здесь в печке. Лучинка-то для растопки сыровата была в тот час, — сердито повторил Столбушин.
— Ричард Львиное Сердце! — умильно восхищался Померанцев.
— Плохо ведь учитываются-то ваши автографы…
— Плохо, коммерческий гений наш, плохо, золотая головка!
Раза два заглядывала к Столбушину и Валентина Михайловна.
Всей своей мыслью, пламенно и искренно она просила у мужа прощения за этот день такого светлого веселья, а языком лгала ему, говорила, что все эти гости съехались неожиданно для нее, вопреки ее желаниям. И он хорошо сознавал, что она лжет, и, не понимая уже жизни, глухо страдал от этой лжи. Когда она уходила от него, он почти стонал:
— Зачем она лжет? Зачем?
После того, как гости отзавтракали в столовой, с ним начался обычный припадок желудочных болей и жестокие схватки голода. Когда в столовой шумно и весело обедали, он тихонько растворял дверь своей спальни и, просунув голову, вытягивая шею, как зверь, нюхал вкусный запах лакомых блюд, пожираемых там в столовой под веселый звон серебра и мелодичное треньканье хрусталя. И страдал, как под кнутами истязателей. Затем он, улучив минуту, позвал к себе Ираклия и долго, со всеми подробностями, расспрашивал его, как готовил повар фарш для сегодняшних пирожков. Глотая голодную слюну, томил себя, рвал на части желудок и все-таки расспрашивал:
— Ты говоришь, и налимьей печеночки туда же бросил?
— Точно так-с, и налимьей печеночки.
— И рис с поджаренным лучком?
— И рис, точно так-с.
Когда в столовой отобедали, и вся компания шумно удалилась за сад к озерам, он не выдержал пытки, как вор, озираясь по сторонам, проник в столовую, воспользовавшись отсутствием Ираклия, и набил оставшимися пирожками оба кармана своей куртки. Затем, стыдясь своей слабости, он прокрался в поле на межу, лег там под кустом и ел их, обжорливо чавкая, терзая почти со злобой вкусное жирное тесто, пока не съел все без остатка. А потом катался в припадке удушливой рвоты, задыхаясь, давясь, выкатывая слезящиеся глаза, царапая от боли землю, крутя ногами. И, весь скорчившись, прижимая колени к подбородку, выл, как собака, жалобно и тоскливо. Выкликал, обливаясь слезами:
— У-у, гонят меня отсюда… погаными кнутами… как собаку… от благополучия, которое я сам же нажил… своим горбом… у-у… за что? Где правда? У-y… Где? У-у…
Читать дальше