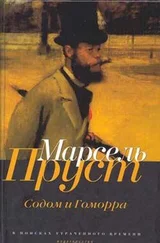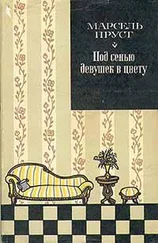Удивляясь, что ее племянники восхищаются Бальзаком, она ставила ему в вину, что он замахнулся на изображение общества, «в котором его не принимали», и наговорил о нем множество несообразностей. А о Гюго она рассказывала, что граф Бульонский, ее отец, имевший приятелей среди молодых романтиков, попал благодаря им на премьеру «Эрнани», но не высидел до конца: уж больно смехотворными ему показались вирши этого одаренного, но безмерно переоцененного писателя, который титул великого поэта получил благодаря успешной сделке, в награду за снисходительность, которую он в своекорыстных целях проявлял по отношению к опасным бредням социалистов.
Но впереди уже виднелся отель и его огни, в первый вечер после приезда такие враждебные, а теперь надежные и добрые, сулившие домашний уют. А когда карета подкатывала к дверям, привратник, грумы, «лифт» уже толпились на ступенях в ожидании, предупредительные и смутно обеспокоенные тем, что мы так припозднились, и встречали нас как родные, как все те, которые на протяжении нашей жизни много раз сменяют друг друга — впрочем, мы и сами меняемся, — но на какое-то недолгое время превращаются в зеркало наших привычек, и нам так приятно чувствовать, что нас отражают верно и дружелюбно. Таких людей мы предпочитаем друзьям, с которыми давно не виделись, потому что сию минуту именно эти люди лучше понимают, какие мы на самом деле. Только наружный лакей, весь день торчавший на солнце, ушел в дом, чтобы не подвергать себя вечерней стуже, и, закутанный в шерстяные покровы, дополнявшие его поникшую оранжевую шевелюру и удивительно розовый цвет щек, напоминал в этом остекленном вестибюле оранжерейное растение, укрытое от холода. Мы выходили из кареты с помощью куда большего количества слуг, чем нужно: они чувствовали всю важность события и считали своим долгом сыграть в нем свою роль. Я был голоден. Часто я, не желая оттягивать обед, не поднимался к себе в комнату, ставшую в конце концов настолько моей, что, как только я видел плотные сиреневые шторы и низкие книжные шкафы, я чувствовал себя наедине с собой: вещи, словно люди, помогали мне себя увидеть; мы ждали все вместе в вестибюле, когда метрдотель придет сказать, что стол для нас накрыт. Это давало нам возможность слушать г-жу де Вильпаризи еще.
— Мы злоупотребляем вашим временем, — говорила бабушка.
— Что вы, я в восторге, я на седьмом небе, — отвечала ее подруга с ласковой улыбкой, растягивая слова и произнося их нараспев, а не с обычной своей простотой.
Дело в том, что в такие минуты естественность ее покидала, она вспоминала о своем воспитании, о том, каким образом аристократка, важная дама, должна показывать буржуа, что счастлива находиться среди них, что в ней нет спеси. Избыток обходительности был у нее единственным отступлением от истинной обходительности: в нем угадывался профессиональный навык дамы из Сен-Жерменского предместья, которая в обществе некоторых буржуа всегда чувствует, что рано или поздно вызовет их недовольство, и жадно пользуется всякой подвернувшейся возможностью заранее обеспечить себе приход в гроссбухе, где ведется учет ее любезности, чтобы потом списать в расход какой-нибудь обед или прием, на который она их не пригласит. Г-жа де Вильпаризи не знала, что обстоятельства переменились, люди уже не те, что были, и в Париже она захочет, чтобы мы почаще ее навещали; дух ее касты раз и навсегда на нее повлиял и, словно ей осталось совсем мало времени на то, чтобы быть любезной, с лихорадочной страстью понуждал ее, пока мы жили в Бальбеке, посылать нам розы и дыни, давать почитать книги, катать в карете и осыпать ласковыми словами. Вот поэтому-то рядом с ослепительным великолепием пляжа, с разноцветным полыханием и глубоководным мерцанием спален и даже рядом с уроками верховой езды, превращавшими сыновей лавочников в гарцующих Александров Македонских, ежедневные одолжения г-жи де Вильпаризи и та мимолетная летняя легкость, с которой бабушка их принимала, отложились у меня в памяти как особые черты курортной жизни.
— Позвольте ваши пальто, их отнесут наверх.
Бабушка отдавала их директору, и я, видя его предупредительность по отношению ко мне, страдал от нашей бесцеремонности, которая, кажется, его глубоко огорчала.
— По-моему, этот господин обижается, — замечала маркиза. — Возможно, он считает себя слишком важной персоной, чтобы принимать у вас шали. Я вспоминаю герцога де Немура: когда я была еще совсем маленькая, он входил к отцу, жившему на верхнем этаже особняка Бульонов, с толстым пакетом писем и газет под мышкой. Вижу как сейчас принца в его синем фраке в проеме нашей двери, покрытой очаровательной резьбой, по-моему, ее делал Багар [199] Сезар Багар (1639–1709) — французский скульптор; его резьба по дереву имеется в некоторых парижских особняках. У Пруста были шкатулка и стенные часы, изготовленные Багаром.
— знаете, такие тонкие планочки, настолько гибкие, что иногда краснодеревщик придавал им форму бантов и цветов, как будто это букет, обвязанный лентой. «Возьмите, Сирюс, — говорит он отцу, — консьерж просил вам это передать. Он мне сказал: „Вы ведь идете к господину графу, так зачем мне лишний раз подниматься, только смотрите не порвите бечевку“». А теперь, когда вы избавились от ваших вещей, располагайтесь вот здесь, — говорила она бабушке, беря ее за руку.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу