Голос его задрожал, на глаза навернулись слезы.
— Ну, я прощаюсь с вами, господин. Дай вам бог добрую ночь и здоровье! — вдруг сказал Мате.
Он решил уйти: ему показалось, что он тут лишний. Честный тежак упрекал себя за то, что, хоть и невольно, вызвал больного на такие признания, которым, пускай даже обоснованным, следовало оставаться в узком семейном кругу. Подумалось Мате, что если Илия выздоровеет, неприятно ему будет сознавать, что чужой человек был свидетелем исповеди, осуждавшей жизнь, проведенную в суетности, в старании предстать перед людьми в ослепительных ризах славы.
— Уже уходишь, Мате? Что ж, с богом да передай привет домашним!
Они сердечно пожали руки. Выйдя в сени, Мате вытер глаза. Его глубоко тронула участь Илии, хотя бы потому, что были они ровесниками. А смерть ровесника всегда — грозное предупреждение, и отмахнуться от него невозможно. К тому же, несмотря на суровое осуждение самого себя, был Илия человек добрый, мягкосердечный, снисходительный и великодушный. Где требовалась его помощь, он не уклонялся, всегда оказывался на месте. Беднота теряла в нем милосердного самаритянина. Медлительный, а порой и небрежный в решении собственных дел, Илия нередко деятельно и энергично вступался за других. Часто не зная, как поступить самому, другим он умел подать совет, и притом превосходный. Если же не в силах был помочь, умел, по крайней мере, успокоить, утешить…
«Рушатся старые опоры, падают одна за другой», — размышлял Мате, и безмерная тяжесть наваливалась ему на грудь. Словно весь мир менялся до основания, и, что горше всего, менялся к худшему. Будто погибель надвигается.
Когда Мате ушел, больной в самом деле успокоился. Лежит тихо, закрыв глаза. Можно подумать, совсем здоровый человек, если б не прерывистое дыхание и воспаленное лицо. Временами из груди его вырывается такой вздох, словно исходит прямиком из сердца. Дорица всякий раз пугается, наклоняется к отцу, оглядывается на Нико, ища у него объяснения, и в ее синих глазах отражается страх.
А Нико сидит с другой стороны кровати, сидит тихо, погруженный в тяжелое раздумье. Когда Дорица поднимает на него вопросительный взгляд, он спохватывается, собирает всю свою веру в то, что отец ее выздоровеет, и отвечает твердым взглядом, словно говорящим: «Не бойся — это ничего…» Дорица успокаивается, надежда ее крепнет, и Нико испытывает огромную радость, что вот — сумел ее утешить. Он гордится, что служит опорой отчаявшимся, что взгляд его обладает силой отогнать страх и дать утешение.
Он понял уже, что нужен здесь. В доме из-за малейшей перемены сейчас же поднимается паника. От Бонины нет никакого толка. Она бродит по дому как потерянная, хорошо еще, что приходится ей заниматься детьми, но едва уложит она их спать, едва разнесется по дому их тихое, мерное дыхание, бедная женщина просто не знает, куда деваться. Порой она впадает в такое отчаяние, что пошла бы да утопилась, только мысль о детях и останавливает ее. Бонина то и дело заходит в столовую, где всегда полно посетителей; пришедшие справиться о состоянии шьора Зорковича, они сидят тут часами в тихой беседе, а если случается, что никого из домашних нет, то даже шутят и всячески развлекаются. Если б можно было, они вошли бы в комнату больного и там просиживали бы часами, смотрели бы… Шьора Бонина не очень приветлива с ними, старается уклониться от их любопытствующих глаз, предпочитая забиться куда-нибудь в уголок, где можно без помех выплакаться. В комнату мужа она войти не осмеливается. Вечером Нико поскорей отправляет ее спать, и Бонина привыкла ему подчиняться.
Около одиннадцати часов вечера уходят самые стойкие гости: им даже совестно как-то, некому их проводить, попрощаться с ними. В доме воцаряется тишина, не нарушаемая ничем, только слышно дыхание детей, спящих в соседней комнате. Нико гонит и Дорицу спать: ей надо отдохнуть после дороги, после всех волнений. Но Дорица его не слушает; с благоговейной верой меняет она холодные компрессы на голове отца.
Так они остались наедине, каждый со своими мыслями и заботами. Они не разговаривают, даже не смотрят друг на друга, словно легли между ними сотни миль. Но стоит больному пошевелиться, застонать, и мысли их встречаются, передаваясь через взгляды. У Нико такое чувство, будто это тихое, немое взаимопонимание, в котором столько интимности, — кощунство с его стороны: он уже потерял право на него, нет у него даже права сидеть возле этой постели. Но было бы неестественно и жестоко покинуть это место, взвалив всю тяжесть беды на слабые плечи Дорицы…
Читать дальше
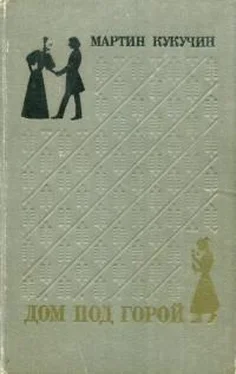



![Хью Пентикост - Убить,чтобы остаться [Город слухов. Дом на горе. Уберегите ее от злого глаза. Убить, чтобы остаться]](/books/86867/hyu-pentikost-ubit-chtoby-ostatsya-gorod-sluhov-thumb.webp)



