А Барицу порадовала новость Матии. Одной меньше в доме останется… И уже красивее, милее прежнего кажется ей старшая золовка. Сперва-то только заставляла Барица себя смотреть приветливо, теперь ее радость искренна. И когда Матия хотела помочь убирать со стола, Барица сказала от всей души:
— Ой, спасибо, спасибо — не трудись, ты и так усталая…
— Как бы там ни было, — заключил отец, — а все же надо хорошенько еще подумать. И прежде всего хочу я его увидеть.
— Без этого и не обошлось бы, — отозвалась Матия. — Он тоже хочет приехать, чтоб вы его узнали…
— Узнать-то его легко! — вмешалась Катица. — Волосы как костер, издали видать…
— Какие у него волосы, это мы уже раз слышали, — оборвал ее отец. — Повторять незачем. И запомни, дочка: красота — цветок, который вянет скорее всего. Впрочем, все это вещи, о которых тебе не угодно думать… Вместо этого, вижу, суетность тебя всю захватила: все бы тебе наряжаться, хвастать, людям глаза слепить. Как хочешь, а не нравятся мне твои хозяева: не учат тебя уму-разуму. А может, голова у тебя пустая, ничего-то в нее не входит… Довольно и этого, не заносись, дочка! Вон и тыква поверху плавает, коли внутри пуста. Запомни!
Резки были слова, строг отцовский тон. У Катицы слезы готовы брызнуть, в горле комок душит. А больнее всего, что другие слышали отповедь, может, и порадовались, особенно Матия. Ни за какие сокровища в мире не поднимет Катица глаз — кажется ей, провалилась бы сквозь землю от стыда.
Но еще больше резкость мужа обидела Еру. В ней поднялся протест — так и бросилась бы защищать своего ребенка, к которому так несправедливы… Но с Мате не поспоришь — приходится склонять голову. И все-таки не удержалась мать, подошла к дочери, погладила по голове, по волосам цвета воронова крыла, от которых как бы искры сыпались.
— Когда отец бранит, мать не должна ласкать! — строго сказал Мате. — Убери руку!
Ера отдернула руку, отошла скромненько, робко поглядывая, не рассердился ли муж. Нет, в лице его не заметно ни малейшего признака гнева. С выражением скорее добродушным смотрит он на обиженную дочь. И уже постепенно входит в сердце Катицы чувство, что она под защитой, пускай неласковой, жесткой и строгой. Чувствует она власть над собой, которая приказывает, руководит, причем неумолимо — зато и защищает, охраняет ее. В душу девушки вошла прежняя покорность этой власти, преданность и безусловное доверие, как в детстве. Связались заново, укрепились давние связи, и стало ей ясно: вот — единственный ее мир. Просторные городские комнаты, в которых царит ее молодая хозяйка, скорее наперсница, чем хозяйка, элегантная обстановка, весь этот мир, наполненный ароматом высших стремлений и взлетов, отошел куда-то далеко, словно его и не было; теперь Катице кажется — все это сказка, волшебный сон…
Да, здесь все иное, трезвое, суровое — и все же тут она, Катица, в безопасности, тут у нее твердая почва под ногами. Тут невозможно увязнуть, поскользнуться, потому что все тут такое простое и ясное, хоть и несколько однообразное. Тут господин — он, отец, властный и твердый, словно из камня вытесан, с его загорелым лицом, которому могучий нос придает выражение строгости и неумолимости. И все же — все же тут так тепло, мило, уютно, и невольно с новой силой ощущает девушка, что она — не одинокая, брошенная, заблудившаяся сирота, а дитя, над которым бодрствует заботливое око и которое охраняет сильная рука отца.
— Ну, дети, спать, — проговорил Мате, откладывая люльку.
Матия простилась со всеми кроткой улыбкой и ушла в дом. Легко стало у нее на душе, когда приехала домой; кажется, никогда еще, с тех пор как покинула отчий дом, не была она так покойна.
Катица последовала за сестрой, все еще пристыженная, покоренная силой отцовской личности. Как проходила мимо него, почувствовала на голове его жесткую, тяжелую руку. Другая рука отца, такая же широкая и жесткая, погладила ее по мягкой щечке, прижала к сильной груди. И на эту грудь в страстном порыве кинулась Катица, что-то развязалось в ней, пали какие-то преграды, и душа растеклась в блаженстве. Слезы наконец брызнули, и заплакала она от счастья на отцовской груди.
— Доброй тебе ночи, милая! — тепло промолвил он, и Катица поняла: она все еще любимое младшее дитя, каким была всегда. Преданно посмотрела в глаза отцу, согретая детской любовью, и на щеку, заросшую колючей стерней, влепила жаркий, веселый поцелуй.
Укладываясь на покой, почувствовала она ясно и определенно, что так ложиться можно только под родительским кровом; все остальное — дым, обман…
Читать дальше
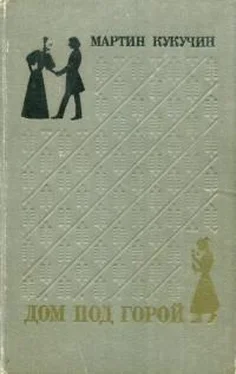



![Хью Пентикост - Убить,чтобы остаться [Город слухов. Дом на горе. Уберегите ее от злого глаза. Убить, чтобы остаться]](/books/86867/hyu-pentikost-ubit-chtoby-ostatsya-gorod-sluhov-thumb.webp)



