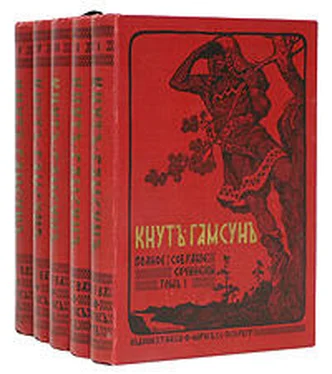И господин Карльсен садится.
— Теперь слово принадлежит господину Гой... господину Гой...
— Это я, по всей вероятности, имею слово? — сказал один господин и поднялся как раз возле кафедры. — Гойбро, — добавил он.
Бондесен слишком хорошо знал, почему этот медведь Лео Гойбро хочет говорить. Он сидел прямо против кафедры и смеялся в продолжение всего доклада Бондесена, он хочет отомстить ему за то, что на его долю выпал успех, хочет блеснуть, перещеголять его в присутствии Шарлотты. Да, он знал это. Та крупица одобрения, которую Бондесен получил, не давала Гойбро покоя.
Никто не знал Гойбро, председатель не мог даже прочесть его имени, и когда этот новый человек поднялся, в зале почувствовались признаки нетерпения. Председатель вынул тогда свои часы и впредь назначил каждому оратору только по десяти минут на доклад; собрание ответило на это рукоплесканиями.
Дагни, которая долго молчала, шепнула Люнге:
— Боже, какой этот господин чёрный, посмотрите, как блестят его волосы!
— Я его не знаю, — ответил Люнге равнодушно. Гойбро начал говорить с того места, где стоял, не всходя на кафедру. Голос его был глубок, глубок как яма, слова произносились им медленно; часто было трудно понять, что он думает, так неумело он выражался; к тому же он и сам извинился, сказав, что не привык произносить речи.
Было совершенно напрасно ограничивать ему время, ему, может быть, даже не понадобится и десяти минут. У него только на душе просьба ко всем строгим людям о милосердии к тем несчастным личностям, которые не принадлежат ни к какой партии, к бездомным душам, радикалам, которые не могли примкнуть ни к правым ни к левым. Ведь сколько голов — столько умов, одни идут быстро, другие — медленно; есть такие, которые верят в либеральную политику и республику и считают это самым радикальным на свете, в то время как другие продумали эти вопросы и уже ушли дальше много лет тому назад. Человеческую душу ведь так трудно выразить в измеримой величине, она состоит из оттенков, из противоречий, из сотен отрывков, и чем душа современнее, тем сложнее составляющие её оттенки. Но такой душе трудно найти себе постоянное место в партии. То, чему эти партии учат и во что верят, уже давно пережито этими душами, это радикалы, которые на пути своего развития покинули долю твёрдого партийного сознания, которой они когда-то обладали, они блуждающие кометы, которые следуют своими путями, оставив все пути других. И вот он хочет попросить за них. Они, по большей части, люди с волей, сильные люди; у них одна цель: счастье, возможно большее счастье, и они обладают одним средством: честностью, безусловной неподкупностью, презрением к личной выгоде. Они борются на жизнь и на смерть за свою веру, они ломают себе спины из-за неё, но они не верят в определённые политические формы, поэтому они совсем не могут быть партийными людьми; зато они верят в благородство души, в великодушие. Их слова подчас бывали тяжки и жестоки, их оружие — опасно, почему нет? Но у них чистое сердце, а ведь в этом всё дело. По его мнению, среди политических партий замечаются опасные признаки нравственного упадка, и поэтому он, насколько это в его силах, хотел бы шепнуть левой, которая является, конечно, партией наиболее ему близкой, маленькое предостережёние — не слишком сильно полагаться на людей, лишённых нравственной воспитанности, быть настороже, всматриваться в окружающих, выбирать...
Таков был смысл его лепета. Собрание было более чем терпеливо, не прервав его шиканьем. Никогда до сих пор не звучала настолько плохая речь в этой зале, где высказывалось столько бездарностей. Он не имел совершенно никакого успеха, стоял твёрдо и неподвижно, как гора, выдерживал длинные паузы, в продолжение которых бормотал что-то про себя и шевелил губами, заикался, не делал ни одного движения и произносил речь, которая была сплошной путаницей, полной неясностей и повторений. Никто его не понял. И однако чувствовалось, что ему действительно было необходимо высказать эти слова, шепнуть это жалкое предостережёние, которое было у него на душе. Видно было, что он вкладывает свою личность в каждое запутанное предложение, даже в свои паузы.
Бондесен, который вначале отнёсся к нему с высокомерием за то, что он так плохо объяснялся, под конец стал в высшей степени нетерпелив. В несвязных словах Гойбро он почувствовал также другую тонкую стрелу, направленную против него, и его действительно оскорбило, что на него нападают. Он ему покажет, как отрицать его радикализм. Он обиделся и закричал:
Читать дальше