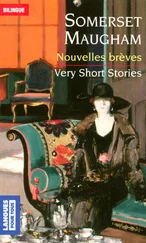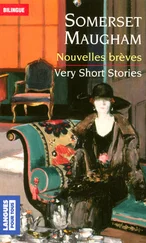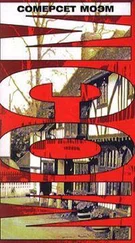Моэм Сомерсет
На чужом жнивье [1] Аллюзия на стихотворение Джона Китса (1795—1821) «Ода к соловью». — Примеч. пер.
Хотя мы с Блэндами знакомы уже много лет, я не знал, что Ферди Рабенстайн приходится им родственником. С Ферди мы впервые встретились, когда ему было лет пятьдесят, а в пору, о которой я пишу, уже давно перевалило за семьдесят. Впрочем, изменился он мало. Его жесткие, но все еще густые вьющиеся волосы, конечно, побелели, однако фигура сохраняла легкость, и держался он с обычной своей галантностью. Легко верилось, что в молодости он был замечательно хорош собой и что молва ему не льстит. У него и сейчас был точеный семитский профиль и блестящие черные глаза, разбившие сердце не одной англичанке. Высокий, худощавый, с правильным овалом лица и гладкой кожей, он к тому же прекрасно носил платье, и даже сейчас в вечернем костюме выглядел самым красивым из всех известных мне мужчин. В пластроне его рубашки красовались черные жемчужины, на пальцах — платиновые кольца с сапфирами. Пожалуй, его стиль грешил известной броскостью, но чувствовалось, что он прекрасно соответствует характеру Ферди: ему бы просто не пошло ничто иное.
— В конце концов, я человек восточный, — отшучивался он, — могу себе позволить толику варварского излишества.
Мне всегда приходило в голову, что Ферди Рабенстайн прямо просится в литературные герои: отличная бы получилась биография. Он не был великим человеком, но, в назначенных себе пределах, превратил свою жизнь в произведение искусства. То был маленький шедевр, вроде персидской миниатюры, чья ценность — в полной завершенности. Только, к сожалению, данных было бы маловато. Такая биография должна бы состоять из писем, которые скорей всего давно были уничтожены, а также из воспоминаний тех, кто очень стар и вскоре сойдет в гроб. У самого Ферди память феноменальная, но он не станет писать мемуары, ибо воспоминания для него — источник глубоко интимных радостей, а человек он такта безупречного. Да я и не знаю никого, кроме Макса Бирбома, кто мог бы воздать подобному герою по заслугам. В сегодняшнем жестоком мире лишь он способен отнестись к банальному с таким нежным участием и возбудить такое мягкое сочувствие к тщете. Удивительно, что Макс, который, надо думать, знает Ферди и много дольше, и много лучше моего, не пожелал ради него пускать в ход свою изощренную фантазию. Ферди просто был создан, чтобы попасть к Максу на перо. А иллюстрировать эту изысканную книгу, стоящую у меня перед глазами, следовало бы, конечно, Обри Бердслею. То был бы тройной памятник, воздвигнутый великими в честь однодневки, которая почила бы на века в чарующе прозрачном янтаре.
Победы Ферди были светскими, и ристалищем ему служил большой свет. Родился он в Южной Африке, в Англию приехал уже в двадцатилетнем возрасте. Какое-то время занимался биржевыми операциями, но, унаследовав значительное отцовское состояние, оставил дела и предался праздной жизни. Английское общество тогда еще выло непроницаемо для посторонних, и еврею нелегко было прорваться сквозь его препоны, но перед Ферди они пали, словно стены Иерихона. Он был красавец, богач, он любил охоту, он был приятен в обращении. Ему принадлежал дом на Керзон-стрит, обставленный изумительной французской мебелью, он держал повара-француза, ездил в двухместной карете. Любопытно было бы узнать, как, с каких шагов началась столь блистательная карьера, но сведения об этом покрыты мраком неизвестности. Когда мы с ним встретились впервые, он уже давно слыл одним из самых элегантных людей в Лондоне. Случилось это в Норфолке, в одном весьма фешенебельном доме, куда меня как подающего надежды молодого романиста пригласила хозяйка, питавшая слабость к литературе; общество там собралось самое избранное, и я был преисполнен трепета. Нас было шестнадцать человек гостей, чувствовал я себя неуверенно и одиноко среди членов кабинета, гранд-дам и пэров Англии, говоривших о людях и обстоятельствах, мне совершенно не известных. Они держались вежливо, но безучастно, и я не мог не сознавать, что, так или иначе, являюсь для хозяйки обузой. Спас меня Ферди. Он присаживался ко мне, прохаживался со мной, разговаривал только со мной. Едва он узнал, что я писатель, как сразу заговорил о драме и романе; выяснив, что я долго жил на континенте, с большой приятностью стал рассуждать о Франции, Германии, Испании. Можно было подумать, что он и впрямь дорожит моим обществом.
Читать дальше