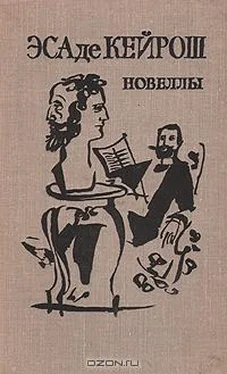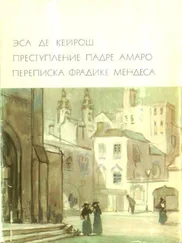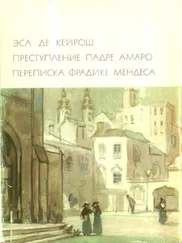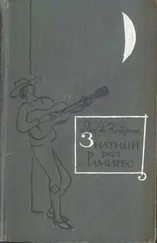А божественная Элиза, вступив в брак, продолжала жить в доме «Виноградная лоза» со своим новым супругом Торресом Ногейрой так же спокойно и с тем же комфортом, с каким жила прежде со своим старым супругом Матосом Мирандой. В середине лета Жозе Матиас переехал из Порто в Арройос, в дом дяди Гармилде, где занял те же комнаты, что и раньше, с балконами, выходящими в сад, в котором уже цвели лилии, но за которыми теперь никто не ухаживал. Подошел август, как обычно теплый и тихий в Лиссабоне. По воскресеньям, как и прежде, Жозе Матиас с доной Мафалдой де Норонья обедали в Бенфике, но одни, потому что Торресу Ногейре неизвестна была эта уважаемая сеньора из поместья Кедров. Вечерами божественная Элиза, одетая в белое, гуляла, по обыкновению, в саду меж клумбами роз. И вроде бы ничего и не изменилось в том милом сердцу уголке Арройоса, разве что Матос Миранда лежал в великолепном склепе из белого мрамора на кладбище Блаженство, а Торрес Ногейра в постели прелестной Элизы.
Меж тем какая ужасная и прискорбная перемена произошла с Жозе Матиасом! Вы, мой друг, даже не можете себе представить, как этот несчастный проводил у окна день за днем, мало чем примечательные, но невероятно изнуряющие. Все его существо: глаза, душа, мысли — были обращены к террасе и дому «Виноградная лоза». Правда, теперь все было иначе: окна не были распахнуты, откровенный экстаз и блаженная улыбка исчезли. Оставаясь невидимым за плотно зашторенными окнами, бесконечно печальный и потрясенный, Жозе Матиас, как вор, подглядывал за Элизой, полный внимания к каждой морщинке на ее белом платье. Вам понятно, почему так страдало это несчастное сердце? Ну, вы, без сомнения, решили, что тому причиной была поспешность Элизы, которая тотчас же, без борьбы и колебаний, как только Жозе Матиас сам, собственными руками отверг ее, бросилась в распростертые объятия Торреса Ногейры… Нет, друг мой! Обратите внимание, сколь утонченно было страдание Жозе Матиаса. Ведь он пребывал в непоколебимой уверенности, что Элиза в глубине души своей, в этом кладезе добродетели, куда заказан вход рассудочности и расчету, заносчивой гордыне, вожделению плоти, любила его, его одного, такой любовью, которая не угасает, не перерождается, а цветет в полную силу, даже без полива и ухода, как древняя мистическая роза. Терзало его и состарило, друг мой, за короткий срок избороздив морщинами лицо, сознание, что грубый мужчина, самец, завладел этой женщиной, душа которой принадлежит ему, одному ему. И то, что этот самец по закону и с благословения церкви прикасался своими жесткими черными усами, и довольно часто, к божественным устам, к которым он, Жозе Матиас, ни разу не осмелился прикоснуться из суеверного благоговения и почти ужаса, испытываемого перед божеством. Как объяснить все это? Видите ли, удивительные чувства Жозе Матиаса были похожи на чувства монаха, в исступленном восторге преклонившего было колени пред образом святой девы, как вдруг какое-то грубое животное кощунственно влезло на алтарь и сладострастно приподняло тунику! Мой друг улыбается? А как же Матос Миранда? Ах, любезный, так ведь Матос Миранда был диабетик, тяжелый и тучный диабетик, и он задолго до того, как Жозе Матиас узнал Элизу и отдал ей на веки вечные сердце и жизнь, поселился в доме «Виноградная лоза», страдая ожирением и сахарной болезнью. А Торрес Ногейра бесцеремонно вторгся, затмил его чистую любовь своими черными усами и грубыми руками мясника, как пикадор, сразил эту женщину, которая, возможно, и не знала, что такое мужчина.
Но черт возьми! Ведь он же сам отверг ее, когда она предлагала себя в порыве чистого и благородного чувства, которое никакое презрение не могло ни запятнать, ни унизить. Чего же хотел он теперь? Вот в этом-то вся сложность возвышенной натуры Жозе Матиаса. Вскоре, спустя несколько месяцев, еще в Порто, он забыл — вот как время и расстояние разгоняют печаль и преображают действительность, — решительно забыл свой оскорбительный отказ, словно это было простое несовпадение интересов, любых: материальных или общественных. И вот теперь в Лиссабоне, видя из своих окон окна Элизы, видя розарии обоих сливающихся и исчезающих в вечерней мгле садов, он испытывал боль, подлинную боль, твердо веря в то, что он любил ее, любил возвышенной любовью, почитая за звезду земную среди равных ей небесных звезд, и поклонялся ей, а этот грубый мужлан с черными усами похитил ее с небосвода лишь затем, чтобы бросить в постель!
Читать дальше