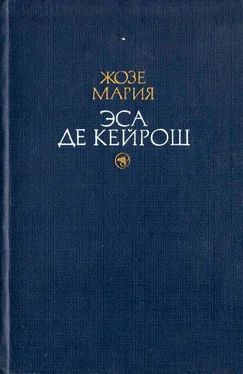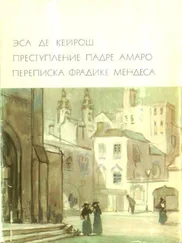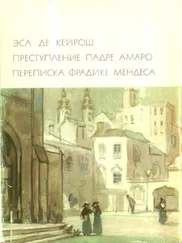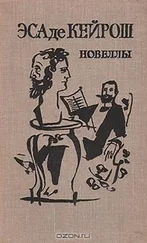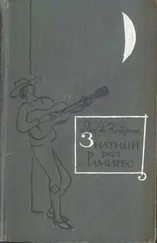Жозе Мария Эса де Кейрош
Жозе Матиас
Дивный вечер, друг мой… Я жду выноса тела Жозе Матиаса – Жозе Матиаса де Албукерке, племянника виконта де Гармилде… Вы, мой друг, безусловно, его знавали – такой изысканный молодой человек, белокурый, как пшеничный колос, с закрученными вверх усами странствующего рыцаря и слабо очерченным безвольным ртом. Истинный дворянин, с утонченным и строгим вкусом. И пытливым умом, одержимым важнейшими идеями века и таким острым, что постиг мою «Защиту гегельянской философии». Этот образ Жозе Матиаса относится к 1865 году, так как последний раз я столкнулся с ним морозным январским вечером в одном из подъездов па улице Сан-Бенто; он был одет в медового цвета изорванный на локтях сюртук, дрожал от холода, и от него отвратительно пахло водкой.
Да вы, мой друг, однажды, когда Жозе Матиас, возвращаясь из Порто, задержался в Коимбре, даже поужинали с ним на Пасо-де-Конде! И Кравейро, который писал свой труд «Сатанические насмешки и скорбь», чтобы поддержать спор между Школой пуристов и Сатанической школой, прочел тогда свой сонет, полный мрачного идеализма, «Сердце в клетке груди моей…». А еще я вспоминаю Жозе Матиаса в широком черном атласном галстуке, торчащем из-под жилета льняного полотна, не отрывающего глаз от горящих в канделябрах свеч и чуть заметно улыбающегося тому, чье сердце рычало в грудной клетке… Это было апрельским вечером, на неба стояла полная луна. Потом мы все вместе прогуливались по тополевой аллее и мосту. Жануарио с чувством пел печальные романтические песни того времени:
В час вечерний, пред закатом
Ты смотрела молчаливо,
Как вскипал поток бурливый
У твоих девичьих ног…
Жозе Матиас стоял, облокотившись на парапет мостя и устремив глаза и душу к луне!
Почему бы вам, мой друг, не проводить столь интересного молодого человека на кладбище «Безмятежность»? У меня, как и подобает преподавателю философии, – наемный экипаж… Что? Светлые брюки! О мой дорогой друг! Из всех материализованных форм сочувствия самая, пожалуй, грубо материальная – это черный кашемир. А ведь тот, кого мы провожаем в последний путь, был большой спиритуалист!
Из церкви выносят гроб. Всего три экипажа и сопровождают его на кладбище. Но, друг мой, по правде говоря, Жозе Матиас умер шесть лет тому назад в полном расцвете сил. Этот же, в обшитых желтыми лентами досках, – мало похожий на него труп пьяницы без имени и прошлого, которого февральский холод, сам того не желая, убил в подъезде.
Кто тот субъект в золотых очках, восседающий в двухместной коляске?… Право, не знаю. Возможно, богатый родственник, из тех, которые появляются на похоронах с траурной лентой, свидетельствующей о родственных связях, тогда, когда покойник уже не может ни докучать, ни компрометировать их. Тучный желтолицый мужчина, сидящий в экипаже, – Алвес-Мерин, издатель журнала «Шпилька», страницы коего, к большому сожалению, скупятся на философские статьи. Что связывало Алвеса-Мерина с Жозе Матиасом?! Не знаю. Может, пили в одних и тех же кабаках, а может, Жозе Матиас последнее время сотрудничал в «Шпильке»? Или под толстым слоем сала издателя и за издаваемой им сальной литературой кроется чувствительная душа? А вот и наш экипаж… Хотите, чтобы я опустил стекло?… Сигарету?… Спички у меня есть… Так вот, на меня и мне подобных, которые в жизни отдают предпочтение логике и требуют, чтобы колос вырастал непременно из зерна, Жозе Матиас производил удручающее впечатление. В Коимбре мы всегда считали его вопиющей заурядностью. Возможно, причиной того была его ужасающая аккуратность. Никогда никакой видимой прорехи на его студенческой, одежде! Никакой случайной пыли на штиблетах! Ни одного непокорного волоска на голове или в усах, всегда столь безупречно расчесанных, что это нас повергало в уныние. Кроме того, из нашего пылкого поколения ой был единственным интеллектуалом, который не оплакивал нищету Польши, прочел, не бледнея и без слез, «Созерцания» и остался безразличен к ранам Гарибальди. И вместе с тем Жозе Матиаса нельзя было упрекнуть в черствости, жестокости, эгоизме или холодности. Наоборот. Приятный товарищ, всегда сердечный и кротко улыбающийся. Его непоколебимое спокойствие, казалось, шло от его сентиментальности и поверхностности. И в то время прозвище Матиас Беличье Сердце, которое мы дали этому юноше, такому приятному, такому белокурому и такому легковесному, было и справедливым, и точным.
Читать дальше