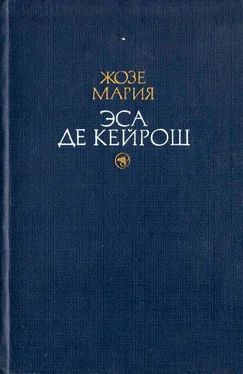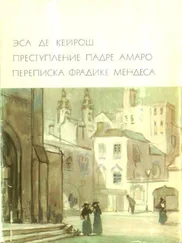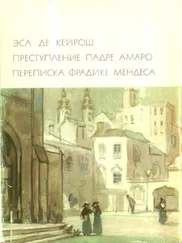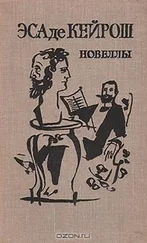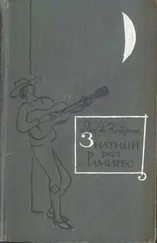Когда же Жозе Матиас окончил университет и за смертью его отца последовала смерть матери, хрупкой красивой женщины, оставившей ему наследство в пятьдесят конто, он отбыл в Лиссабон к брату матери – генералу виконту де Гармилде, который боготворил племянника, – чтобы скрасить дядино стариковское одиночество. Вы, друг мой, без сомнения, помните этот безупречный классический образец генерала с сильно нафабренными усами, в панталонах цвета розмарина, туго натянутых при помощи штрипок на сверкающие сапоги, и с хлыстом под мышкой, конец которого, казалось, дрожит и готов исхлестать весь мир. Забавный воин и невероятно добрый человек. Генерал Гармилде жил тогда в Арройосе, в старинном изукрашенном изразцами особняке с садом, где на высоких клумбах любовно взращивал георгины. Сад этот чуть заметно поднимался к увитой плющом стене, которая отделяла его от другого сада – большого и красивого розария советника Матоса Миранды, чей дом с открытой террасой, крышу которой поддерживали две желтые башенки, высился на вершине холма и носил название «Виноградная лоза». Друг мой знает (по крайней мере из легенд, подобных легендам о Елене Прекрасной или Инее де Кастро) о красавице Элизе Миранда, Элизе «Виноградной лозы»… Это была возвышенная, романтическая красавица Лиссабона конца Возрождения. Однако Лиссабон мог ее видеть либо заглядывая в окна ее кареты, либо в один из светлых вечеров среди толпы, гуляющей по Городскому саду, либо на двух балах собрания Кармо, почетным распорядителем которых был Матос Миранда. Богиня редко покидала Арройос и показывалась на глаза смертным. Возможно, причина крылась в провинциальной страсти к домоседству или приверженности к тому высоконравственному слою буржуазии, который в Лиссабоне все еще неукоснительно соблюдал старинный обычай вести затворническую жизнь, а может, просто не смела ослушаться отеческого запрета мужа – уже шестидесятилетнего старика, да еще диабетика? Однако Жозе Матиас каждый день удивительно легко и даже неизбежно видел ее с того самого момента, как обосновался в Лиссабоне, поскольку особняк его дяди, генерала Гармилде, был расположен на выступе холма, рядом с домом и садом «Виноградная лоза», и стоило божественной Элизе выглянуть в окно выйти на террасу или сорвать розу в буксовой аллее как она тотчас же попадала в поле зрения Жозе Матиаса, тем более что ни одно дерево ни в том, ни в другом саду своими густыми ветвями этому не препятствовало. Уверен, что вы, друг мой, как и все мы, посмеивались над следующими избитыми, но бессмертными строками:
То было осенью, когда лик твой,
Освещенный луной…
И вот, как в этой строфе, осенью, возвратясь в октябре месяце с пляжа Эрисейры, бедный Жозе Матиас увидел вечером на террасе дома «Виноградная лоза» освещенную луной Элизу Миранда. Вряд ли, друг мой, вам довелось встречать такой изысканный и обаятельный образ красавицы в стиле Ламартина. Высокая, статная и в то же время гибкая, достойная библейского сравнения – пальма на ветру. Волосы смоляные, густые, блестящие, расчесанные на прямой пробор и спускающиеся вдоль щек двумя волнистыми бандо. Кожа цвета только что распустившейся камелии. Глаза черные, влажные, кроткие и печальные, опушенные длинными ресницами. Ах, друг мой, даже я, столь усердно конспектировавший Гегеля, три дня восхищался ею после того дождливого вечера, когда увидел ее ожидающей карету у подъезда Сейшасов, и посвятил ей сонет! Не знаю, посвящал ли ей сонеты Жозе Матиас. Однако все мы очень скоро стали свидетелями сильной, глубокой и совершенной любви, вспыхнувшей в ту осеннюю ночь при свете луны в сердце, которое в Коимбре мы считали беличьим!
Вы хорошо понимаете, что такой сдержанный и скромный молодой человек не вздыхал открыто. Однако еще со времен Аристотеля известно, что любовь и дым не скроешь, а потому очень скоро любовь нашего скрытного Жозе Матиаса обнаружила себя: подобно легкому дыму, она начала просачиваться сквозь невидимые щели охваченного пожаром дома. Отлично помню, как, возвратившись из Алентежо, я навестил его в Арройосе. Был июльский воскресный день. Он собирался поужинать у своей двоюродной бабушки доны Мафалды Норонья, проживающей в Бенфике в поместье «Кедры», где по воскресным дням имели обыкновение ужинать Матос Миранда и божественная Элиза. Думаю, что она и Жозе Матиас только здесь, в этом доме, и встречались, особенно среди задумчивых тополевых аллей и укромных затененных уголков, легко предоставлявших им эту возможность. Окна комнаты Жозе Матиаса выходили как в сад Матиасов, так и в сад Миранды, и, когда я вошел, он спокойно заканчивал свой туалет. Никогда, друг мой, я не видел лица, излучающего такое безмятежное, такое неизменное счастье! Он улыбался вдохновенной, идущей из самых глубин души улыбкой, когда обнимал меня; улыбался еще приятнее, когда я ему рассказывал свои алентежские неприятности; и позже, восторженно, радуясь теплу и рассеянно разминая в руке сигару; улыбался все время, пока с особым тщанием выбирал в выдвижном ящике комода галстук белого шелка. И ежеминутно, сам того не замечая, как не замечаем мы, когда моргаем, трогательно-нежно поглядывал, на закрытые окна… Поймав этот счастливый взгляд, я тут же обнаружил предмет, которому он был адресован: на веранде дома «Виноградная лоза» спокойно прохаживалась божественная Элиза, в белом платье и белой шляпке, раздумчиво натягивая белые перчатки и тоже не оставляя без внимания окна моего друга, на которых косой луч солнца оставлял золотые блики. Жозе Матиас все время улыбался и, разговаривая со мной, чуть слышно произносил какие-то любезные и ни к чему не обязывающие слова. Внимание его теперь было сосредоточено на булавке, украшенной кораллом и жемчугом, которой он, стоя перед зеркалом, закалывал галстук, и на белом жилете, который он застегивал и одергивал с благочестием молодого священника, облачающегося впервые в столу и стихарь, перед тем как приблизиться к алтарю. Я никогда не видел, чтобы мужчина с таким наслаждением одевался и душил носовой платок одеколоном. А надев редингот и приколов к нему великолепную розу, он с явным волнением, но более не сдерживая радостного вздоха, подошел к окну и широко распахнул его. Introito ad altarem "Dearn [1]Я продолжал спокойно сидеть на софе. И, дорогой друг мой, – поверьте! – позавидовал этому недвижно стоящему у окна во власти своего возвышенного чувства молодому человеку, глаза, душа и все существо которого были устремлены туда, к ней, к одетой в белое женщине, натягивавшей светлые перчатки и абсолютно безразличной к окружающему ее миру, будто мир этот – всего лишь попираемый ее ногами булыжник мостовой.
Читать дальше