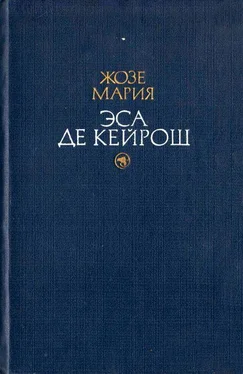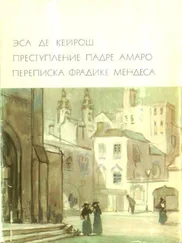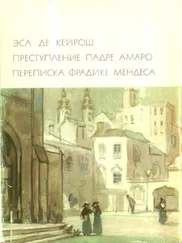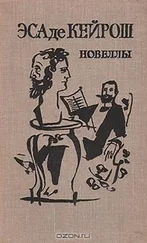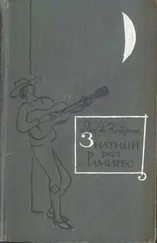Жозе Мария Эса де Кейрош
Цивилизация
У меня есть любезный моему сердцу друг Жасинто, который родился во дворце; плодородные оливковые и хлебные плантации и скот приносили ему сорок тысяч годового дохода.
Еще в детстве, когда его мать, тучная, легковерная дама родом из Траз-оз-Монтес, разбрасывала укроп и амбру, дабы умилостивить добрых фей, Жасинто был выносливее и крепче, нежели сосна, растущая на дюнах. Прозрачная красавица река, журча протекавшая по совсем гладкому и совсем белому песчаному дну и отражавшая только клочки сияющего летнего неба да вечнозеленые, ароматные ветви деревьев, не приносила столько радости и наслаждений тому, кто плыл вниз по ее течению на лодке, устланной подушками и полной замороженного шампанского, сколько приносила жизнь моему товарищу Жасинто. Он не болел корью, и у него не было глистов. Даже в том возрасте, когда все мы зачитываемся Бальзаком и Мюссе, особой чувствительностью он не страдал. В друзьях он всегда был счастлив, как Орест. Любовь была для него сплошным медом – любовь неизменно приносит мед тем, кто любит, как пчелка, легко перелетающая с цветка на цветок. Честолюбие его заключалось в том, чтобы овладеть важнейшими идеями, и «острие его интеллекта», как выразился один старый средневековый хронист, еще не заржавело и не притупилось… И, однако, с двадцати восьми лет Жасинто уже зачитывался Шопенгауэром, Екклезиастом и другими пессимистами рангом пониже и несколько раз в день протяжно и глухо зевал, проводя тонкими пальцами по щекам, словно осязая их бледность и увядание. В чем же было дело?
Среди всех людей, которых я знавал, это был самый цивилизованный человек, или, вернее, он был до зубов вооружен цивилизацией – материальной, декоративной и интеллектуальной. Во дворце под пышным названием «Жасмин», который его отец – тоже носивший имя Жасинто – воздвиг на месте скромного дома XVII века с сосновым полом и выбеленными известкой стенами, существовало, на мой взгляд, все, что на благо духа и плоти в борьбе с невежеством и недугами создало человечество с тех времен, когда оно покинуло счастливую долину Септа-Синдхи, Землю Обильных Вод – прекрасную родину индоевропейцев. Библиотека, разместившаяся в двух валах, светлых и огромных, как площади, занимала сплошь все стены – от караманских ковров до стеклянного потолка, сквозь который солнце и электричество поочередно лили устойчивый и мягкий свет, и насчитывала двадцать пять тысяч томов, расставленных на черном дереве и облаченных в великолепный алый сафьян. В одном только философском разделе (ради вполне оправданной предосторожности, в целях экономии места библиотекарь собирал лишь те труды, которые принадлежали к диаметрально противоположным философским системам) было тысяча восемьсот семнадцать книг!
Как-то вечером я собирался выписать одну цитату из Адама Смита, и вот, разыскивая этого экономиста на полках, я пробежал восемь метров политической экономии. Таким образом, мой друг Жасинто был полностью обеспечен всеми важнейшими творениями разума, а также и глупости. Единственным неудобством в этом монументальном арсенале познаний было то, что всякий, кто проникал туда, неизбежно засыпал там благодаря креслам, которые были снабжены тонкими подставками для книг, сигар, карандашей, для чашки кофе и которые представляли собой колышущееся, мягкое сооружение из подушек, в котором тело, в ущерб духу, тотчас обретало сладость, удобство и полный покой – покой постели.
В глубине дома находилась святая святых – рабочий кабинет Жасинто. Его массивное обитое кожей аббатское кресло с гербами датировалось XIV веком, а вокруг него висели многочисленные слуховые рожки, которые, на фоне драпри цвета плюща или цвета мха, казались спящими змеями, висящими на стене старой фермы. Я никогда но мог без удивления вспомнить его стол, сплошь заставленный хитроумными и изящными инструментами для разрезания бумаги, нумерации страниц, оттачивания карандашей, соскабливания помарок, оттисков дат, нагревания сургуча, подкалывания бумаг, проставления печати на документах! Одни были никелевые, другие – стальные, сверкающие и холодные, и, дабы овладеть каждым из них, приходилось много и усердно трудиться; иные инструменты с тугими пружинами, с блестящими остриями кололись п делали свое дело: на длинных листах ватманской бумаги, на которых он писал ж которые стоили пятьсот рейсов, я не раз обнаруживал капли крови моего друга.
Читать дальше