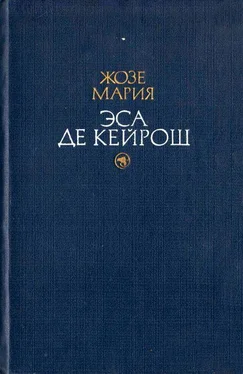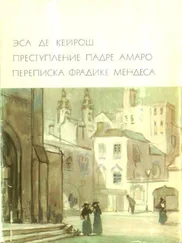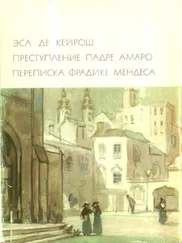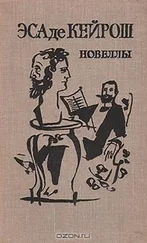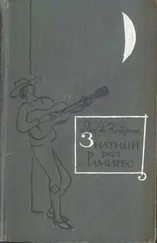Но он покорно сел за стол и в течение долгого времени задумчиво вытирал носовым платком черную вилка, и деревянную ложку. Потом молча и недоверчиво отхлебнул маленький глоток повергающей в трепет куриной похлебки. Отхлебнул и поднял на меня, своего товарища, и друга, большие, удивленно блестевшие глаза. Он отведал еще одну ложку похлебки, на сей раз чуть медленнее, на сей раз более полную… и, улыбнувшись, изумленно прошептал:
– Вкусно!
Это было действительно вкусно: в похлебке была печенка и был зоб, ее аромат наполнял душу умилением. Я трижды энергично набрасывался на эту похлебку, а Жасинто выскоблил супницу. Но славный Зе Брас уже отодвинул кукурузный хлеб, отодвинул свечу и поставил на стол покрытое глазурью блюдо, до краев наполненное рисом с бобами. Надобно заметить, что, хотя бобы (греки называли их сиборией) относятся к эпохе высшей цивилизации и хотя они так укрепляли мудрость, что в Сиклоне, в Галатии, был воздвигнут храм в честь Минервы Сиборийской, Жасинто всегда их ненавидел. Тем не менее он робко подцепил боб на вилку. И снова его расширившиеся от изумления глаза поймали мой взгляд. Еще боб, еще взгляд… И вот мой требовательнейший друг восклицает: – Великолепно!
Был ли это возбуждающий горный воздух? Было ли это изумительное искусство тех женщин, которые там внизу, мешали в котлах, распевая «Взгляни, мой дорогой»? Не знаю, но с каждым новым блюдом хвалы Жасинто становились все более безудержными и громкими. И наконец, когда подали петуха с лавровым листом, жаренного на деревянном вертеле, он возопил:
– Божественно!
Впрочем, ничто не привело его в такой восторг, как вино, вино, льющееся из толстой зеленой кружки, вино вкусное, пронизывающее, бодрящее, горячее, в котором больше жизни, нежели в целой поэме или в священной книге! Глядя при свете сальной свечки на грубую рюмку, которую вино украсило пеной, я вспоминал о том деревенском дне, когда Вергилий, сидя под навесом из ветвей в доме у Горация, воспевал наслаждения Реции. И Жасинто – я впервые увидел на его щеках румянец вместо шопенгауэровской бледности – тотчас прошептал сладостный стих:
– «Rehica quo te carmina dicat». [4]
Кому под силу достойно воспеть тебя, вино этих гор?!
Итак, мы, опекаемые Зе Брасом, чудесно поужинали. А затем вернулись к единственному развлечению в доме – к незастекленным окнам – и стали молча любоваться роскошным летним небом, столь густо усеянным звездами, что все окно казалось плотным облаком яркой золотой пыли, неподвижно висящим над черными горами. Я обратил внимание моего Жасинто на то, что в городе за небесными светилами никогда не наблюдают, ибо их затмевают лампы, а потому там никогда и не возникает тесной близости с вселенной. Городской житель принадлежит своему дому, в крайнем случае, если он уж очень общителен, – своему кварталу. Все отдаляет и отрывает его от остатков природы – громоздкие шестиэтажные дома, дым каменных труб, медленно и неуклюже катящиеся омнибусы, тюремная решетка городской жизни… Но быть на вершине горы где-нибудь в Торжесе – это совсем другое дело! Здесь все эти прекрасные сверкающие звезды смотрят на нас с близкого расстояния, как глаза разумных существ, – одни смотрят пристально, с величественным равнодушием, другие смотрят тревожно, излучая свет трепещущий, свет зовущий, словно они стремятся раскрыть своп тайны и узнать наши… И нельзя не ощутить некоего совершенного единства между этими необъятными мирами и нашими бренными телами. Все мы – творения единой воли. Все мы обрели жизнь благодаря действию этой имманентной воли. Следовательно, все мы, начиная с Урана и других планет и кончая всеми Жасинто являемся разными образами некоего единого существа и посредством его превращений составляем единое целое. Нет более утешительной мысли, чем мысль о том, что я, ты эта гора, солнце, которое сейчас скрылось, являемся молекулами единого Целого, подчиняемся единому Закону, идем к единому Концу. Отсюда возникает мучительная ответственность индивидуалиста. Кто мы такие? Бессильные оболочки, движимые некоей Силой. И в этой мысли, хотя бы и мимолетной, таится дивный покой – покой уверенности в том, что ты крошечная, невинная и безвольная пылинка, носимая ураганом, или капля, затерянная в потоке! Жасинто, погрузившийся в тень, соглашался со мной. Ни он, ни я не знали названий этих восхитительных небесных светил. Я – по своему дремучему и непроходимому невежеству, невежеству бакалавра, – таким я вышел из чрева Коимбры, моей духовной матери. Жасинто потому, что в его монументальном книгохранилище было триста восемнадцать трактатов по астрономии! Но, в конце концов, какое нам было дело до того, что одна звезда называется Сириус, а другая – Альдебаран? И какое дело было им до того, что одного из нас зовут Жозе, а другого – Жасинто? Мы были смертными оболочками одного бессмертного существа, и в нас жил один Бог. И если они понимали это так же, как мы, то и мы у окна дома в горах, и они в своей изумительной бесконечности творили пресвятую волю, совершенную волю Благодати, и это значило сознательно ощутить наше единство и на мгновение уяснить себе наше божественное начало.
Читать дальше