Эфраим и Шмуле-Сендер слезли с телеги и побрели в конторку, где обычно выдавал землякам почту Ардальон Игнатьевич Нестерович.
Самого Ардальона Игнатьевича на месте не было, но на столе лежала его фуражка с околышем (даже став почтарем, он никогда с ней не расставался). А раз есть фуражка, появится и сам почтарь. Видно, вышел по нужде во двор. Или куда-нибудь в другое место отлучился. Он знал, что письма все равно никто не украдет, а переводные деньги всегда носил с собой, даже когда ходил в нужник.
— Мне есть письмо? — несмело спросил Шмуле-Сендер, когда Ардальон Игнатьевич вернулся в контору.
— Кажется, есть, — хмуро ответил Нестерович.
Ардальон Игнатьевич порылся в какой-то сумке, выудил оттуда конверт и протянул Шмуле-Сендеру. В другой раз Шмуле-Сендер расплылся бы в улыбке, подпрыгнул бы от радости до потолка — благо потолок в конторке был низенький-пренизенький, но соседство Эфраима глушило его радость. Письмо от Берла, письмо от Берла! Все в Шмуле-Сендере ликовало, но ликовало тайно, подспудно, внешне он был так же угрюм и не словоохотлив.
Они собирались уже попрощаться, как вдруг Ардальон Игнатьевич совсем не начальственным, старческим голосом, похожим на их голоса, попросил:
— Посидите!
Просьба Ардальона Игнатьевича была настолько странной и неожиданной, что у Шмуле-Сендера брови сошлись на переносице, как два шелкопряда. Легко сказать — посидите! Да знает ли он, что на душе у Эфраима? Знает ли он, что и Шмуле-Сендер ни секунды не может усидеть на месте, когда ему вручают «летр» от его белого счастливого Берла? Надо срочно ехать домой к Фейге. В другой раз Шмуле-Сендер ответил бы Нестеровичу: некогда, ваше благородие, рассиживаться. Но ему хотелось чем-то отблагодарить почтаря за письмо.
— Ну как, Эфраим?
Эфраим молчал. Он не любил, когда Шмуле-Сендер перекладывал свои заботы на его плечи.
— Ладно, — согласился водовоз.
Он сел, а Эфраим остался стоять.
— Погиб мой Иван, — без всякого предисловия объявил Ардальон Игнатьевич и сгорбился. — Письмо командир прислал…
— Вей-цу-мир! — воскликнул Шмуле-Сендер по-еврейски.
— Смертью храбрых пал… на самой границе… в перестрелке с персами, отстреливался, отстреливался, но этих басурманов было в два раза больше, чем наших… Нет больше Ивана… Нет…
Эфраим понятливо покачал головой.
— Вам хорошо, — продолжал Ардальон Игнатьевич. — Ваши сынки на персидской границе не служат… державу от врагов не охраняют… в Вильно живут… в Америке…
— Наших сынков на персидскую границу не пускают, — огрызнулся Шмуле-Сендер. — Думают, наверно, к врагу… к персу перебегут…
— Вам хорошо, — твердил свое Нестерович.
— Хорошо, — произнес Эфраим. — Хорошо.
Ардальон Игнатьевич растрогался от его слов, подошел к нему, обнял за плечи, тряхнул:
— Спасибо, Эфраим.
Глянул ему в глаза и, как будто что-то вспомнив, спросил:
— А твой? Что стало с твоим?.. Каторга небось?
— Каторга, — ответил Эфраим. — Только не ему, а мне…
— Право слово, мудро сказано. Дети — наша каторга… бессрочная каторга…
Посидели, и пора, подумал Шмуле-Сендер. Письмо лежало у него на ладони, как ханукальный блин; не терпелось взять его в рот, съесть, облизаться, потом еще раз облизаться. Ардальон Игнатьевич не должен быть на них в обиде. Почтили они его Ивана. Хороший был парень, одногодок Эфраимова Гирша и его Берла.
— Осенью… если доживу… на могилу поеду, — объявил Нестерович, не скрывая к ним своей благодарности. Евреи и такие и сякие, но сердце у них, как у русских, отзывчивое. — Если уж ему суждено было пасть смертью храбрых, мог бы пасть поближе к дому. Даль-то какая! До Ташкента сколько, а оттуда еще и еще!..
Он вдруг засуетился, достал из шкафчика бутылку с мутным самогоном, такой же мутный стаканчик и сказал:
— Я знаю, что вы, евреи, самогона не пьете, но прошу! — он налил из бутылки в стакан и, не взглянув на приезжих, выпил залпом.
Руки у него дрожали; стаканчик стукался о бутылку; бутылка позванивала; и этот звон был чем-то похож на отдаленный, затихающий плач.
— Ежели за мертвого не хотите, выпейте за своих… живых! — сказал Ардальон Игнатьевич и, измученный этим плачем-звоном, налил Эфраиму. — Выпьем, Эфраим, и Шмуле-Сендер не откажется.
— За твоего Ванечку, — сказал каменотес.
Ему хотелось добавить имена своих детей: засыпанного во рву Гирша, ушедшего в тайгу за бурым медведем Эзру, спустившегося в ад Шахну, гуляющую по Киеву с паспортом проститутки Церту (иначе ее оттуда бы мигом выселили!), но сдержался. Своим горем нельзя, как козырной картой, чужое крыть…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
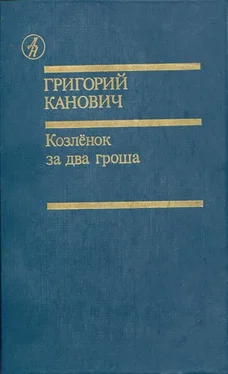








![Григорий Канович - Киносценарии, 1982. Второй выпуск [альманах]](/books/396197/grigorij-kanovich-kinoscenarii-1982-vtoroj-vypusk-thumb.webp)