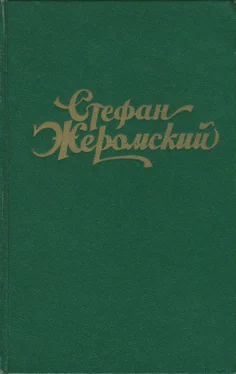— Кто они?
— Как, кто они?.. Мужичье в корчме.
— Чего это они? Крестины, что ли?
— Нет, не крестины, а все из‑за этого Пулюта. Ехал я верхом из Костжевна, вижу, идут два каких‑то чучела. Двинулся я за ними следом и ехал до тех пор, пока они не завернули к Берку. Тут я соскочил, лошадь оставил за углом, а сам забрался в боковушу. Сидел да слушал, о чем они болтают. Когда я туда пробрался, они уже со всеми обнимались. Как же, друзья — приятели! Если бы вы знали, пан, чего только не наговорил там этот бродяга. Я прямо трясся, так мне хотелось схватить арапник, сорвать с него шапку да погнать олуха навоз выбрасывать из хлева, но побоялся…
— Побоялся? — спросил пан Опадский со странным блеском в глазах.
— Конечно, побоялся. Хоть они уже в отставке и калеки, идут прямо из госпиталя в Токарах, и хоть у старого руки нет, а младший, чужой, всю зиму болел кровавым поносом, но я побоялся. Еще, пожалуй, вернется к нам этот Наполеон да прикажет мне башку отрубить. На кой черт мне с ними связываться?
— Что ты плетешь! — перебил его помещик. — Садись сейчас же на лошадь и поезжай назад в Буды, спрячься в боковуше, где хочешь, только поскорее возвращайся с вестями, что там и как. Откуда этот другой и кто он — это мне нужно знать точно. Запомни все их подлые разговоры, если они на них решатся, и возвращайся живей.
Франусь затянул пояс, хлестнул себя арапником по голенищам и вышел, а пан Опадский приказал подавать на стол. Обедали не в большой столовой, а в другом конце дома, в узкой комнате по соседству с боковушами приживальщиков и комнатами вдовы. Когда старый пан вошел в эту столовую, все были уже в сборе и приветствовали его низкими поклонами. У окна сидела вдова, надменная шляхтянка, страдавшая зубной болью; вечно раздраженная, она никогда ни с кем не разговаривала; в конце стола, примостившись на краешке стульев с особыми пометами, сидели несколько дряхлых стариков, исподлобья робко следивших за выражением лица и жестами помещика. Пан Опадский пробурчал приветствие, сказал каждому из присутствующих какую‑нибудь любезность, сел за стол и начал торопливо есть суп. Блюда приносили из кухни, находившейся на другом конце большого двора, и обед продолжался всегда очень долго.
Лакеи начали как раз обносить четвертое блюдо, когда за стеной раздался громкий топот, грязь брызнула прямо на окна и в облаке пара Франусь осадил перед крыльцом взмыленную лошадь.
Пан Опадский заморгал и процедил сквозь зубы одному из приживальщиков:
— Позовите его сюда, пожалуйста!
Через минуту появился Франусь, голова у него была обмотана тряпкой, на которой проступали кровавые пятна.
— Это что такое? — спросил пан Опадский, пристально глядя ему в глаза.
— Что?.. Мужики меня увидали… Втащили в комнату…
Франусь присел на табурет и громко заплакал.
— Ты, пожалуйста, не реви, а рассказывай все толком!..
— Что ж тут рассказывать! Они все как один стали орать, что на барщину больше не пойдут… Приперли меня к стенке и давай тыкать в нос кулаками. Счастье, что мне удалось пробраться к двери, выскочил я за порог да кинулся к лошади. Уже нога была в стремени, когда кто‑то угодил мне камнем в голову. В глазах у меня потемнело… Счастье, что кобыла помчалась вскачь, а то не сносить бы мне головы. Вы, вельможный пан, всегда одного меня… — продолжал он тонким плаксивым голосом.
— Франусь, изволь замолчать! — спокойно сказал пан Опадский, выпятив губы и глядя в окно.
Затем, подняв брови, он развел руками и произнес:
— Ничего не поделаешь… Ничего не поделаешь… Кто сеет ветер…
Все чинно молчали, только Франусь громко стонал…
— Случись такое со мной — ну! — шепотом пробасил самый молодой приживальщик, глядя на соседа так, точно он только к нему обращался. Не успел он окончить, как пан Опадский повернулся вдруг к Франусю и сказал:
— Иди так вот, как есть, с тряпкой на голове, и зови сюда этих мещанишек. Ходи из дома в дом и говори, что я прошу их прийти, да поживей, поживей же…
Сказав это, он встал из‑за стола, сделал общий поклон и поспешно ушел к себе в кабинет.
Не прошло и получаса, как в буфетной собралась толпа мещан, ожидавших выхода помещика. Пришли больше пожилые люди, а то и вовсе дряхлые старики. На всех были длинные синие сюртуки, не исключая и тех, которым для полноты праздничного наряда не хватало сапог. Все эти «граждане» местечка Зимной работали у помещика на барщине вместе с «мужичьем». На их почерневших, худых и изможденных лицах видна была тревога, в движениях рабская покорность.
Читать дальше