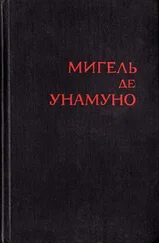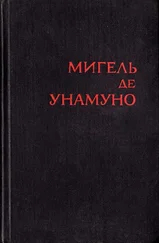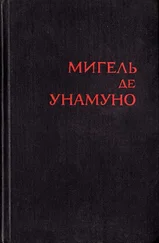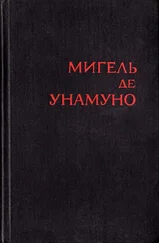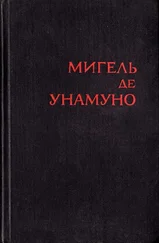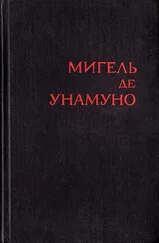Я начинаю знакомиться с завсегдатаями казино, моими сотоварищами, ибо я тоже сделался его завсегдатаем, хоть и не столь усердным и, разумеется, не принимающим участия в игре. Забавляюсь тем, что, прохаживаясь среди игроков по зале, стараюсь вообразить себе, о чем они думают, – естественно, когда молчат, ибо когда из их уст вырываются возгласы, я не в силах уяснить, какое касательство имеют они к их мыслям. Вот почему в моем любопытствовании я предпочитаю партии в тресильо партиям в мус: игроки в мус очень много говорят. А весь этот гам: «прикупаю!», «мажу пять!», «мажу десять!», «взяла!» – может ненадолго развлечь, но в конце концов утомляет. «Взяла!» забавляет меня более всего, особенно когда один из игроков бросает его другому с видом боевого петуха.
Гораздо привлекательней, на мой взгляд, шахматы, – ты ведь знаешь, что в дни юности я отдал дань этому отшельническому пороку, которому предаются в обществе, состоящем из двух человек. Если только это можно назвать обществом. Но здесь, в казино, шахматные партии лишены атмосферы тихой сосредоточенности и одиночества вдвоем, ибо игроков сразу же окружает толпа любопытствующих, они вслух обсуждают ходы, а иные в азарте даже хватаются за фигуры, чтобы самим сделать ход. Особенный интерес вызывают партии между горным инженером и судьей в отставке, они и вправду весьма курьезны. Вчера судья, очевидно страдающий циститом, весь извертелся, и было ясно, что ему невтерпеж, но в ответ на предложение прервать игру и посетить уборную он заявил, что ни за что не пойдет туда один: пусть инженер сопровождает его, иначе за время его отлучки он может поменять позиции фигур в свою пользу; и партнеры отправились в уборную вдвоем: пока судья облегчал свой мочевой пузырь, инженер его дожидался. А зрители, воспользовавшись их отсутствием, переставили на доске все фигуры.
Однако здесь есть некий странный сеньор, уже приковавший к себе мое внимание. Я слышу – впрочем, нечасто, ибо к нему редко кто из присутствующих обращается, – как его называют (возможно, так его и зовут): дон Сандальо, и похоже, что шахматы – главная страсть его жизни. Все остальное в его существовании для меня тайна, но я и не пытаюсь ее разгадать. Мне интересней самому сочинить его историю. В казино его влекут только шахматы, он играет, не произнося ни единого слова, с одержимостью помешанного. Видно, что, кроме шахмат, для него никого и ничего не существует. Посетители казино относятся к нему то ли с вежливым почтением, то ли с вежливым равнодушием, впрочем, как я мог заметить, не лишенным оттенка сострадания. Думаю, что его считают маньяком. Однако всегда находится кто-нибудь, кто, скорее всего из жалости, предлагает ему партию в шахматы.
Зрителей при этом не бывает. Все знают, что дон Сандальо не выносит чужого любопытства, и не мешают ему. Я сам не рискую приблизиться к его столику, а ведь этот человек неотступно занимает меня. Он так обособлен в этой толпе, так погружен в себя! Вернее сказать, в игру, она для него – священнодействие, своего рода религиозный обряд. «Чем же он занят, когда не играет? – вопрошал я себя. – И чем зарабатывает себе на жизнь? Есть ли у него семья? Любит ли он кого-нибудь? Хранит ли в душе боль, разочарование или память о какой-то пережитой им трагедии?»
Когда он покидает казино и направляется домой, я какое-то время следую за ним: мне хочется посмотреть, не сделает ли он по привычке ход конем, пересекая выложенную квадратами и похожую на шахматную доску Центральную площадь? Но потом, устыдясь, я отказываюсь от своего намерения.
Я перестал бывать в казино, но меня неотступно влечет туда: образ дона Сандальо преследует меня повсюду. Он притягивает меня, как тот дуб, лесной богатырь; он тоже – очеловеченное дерево, зеленеющее и безмолвное. Он играет в шахматы, как деревья покрываются листвой.
Два дня я провел, слоняясь возле казино, едва сдерживая желание заглянуть туда; доходил до дверей, затем, повернув, спасался бегством.
Вчера я отправился в лес; выйдя на дорогу, по которой шли гуляющие – шоссе было заасфальтировано для них руками невольников, наемных рабочих, а лесные тропинки протоптаны ногами свободных (ужель и вправду свободных?) людей, – я поспешил вновь углубиться в заросли, к чему меня вынудили рекламные плакаты, изуродовавшие девственную зелень. Деревья, растущие по обочине шоссе, и те превращены в рекламные тумбы! Полагаю, что птицы должны бояться этих деревьев-реклам куда больше, чем пугал, которые крестьяне ставят на засеянном поле. Подумать только, стоит облачить какую-то палку в людские обноски, дабы грациозные создания, вольные птички Божий, оставили в покое поле, где они, ничего не посеяв, сбирают урожай.
Читать дальше