Тем временем лавка заполнялась приказчиками. Они входили, красные от утреннего зноя, далеко обходя бюро, за которым сидел отец, опасливо поглядывая на него, тревожимые уколами нечистой совести.
Полные пороков и слабостей, они ощущали на себе гнет его молчаливого неодобрения, которому не могли ничего противопоставить. Ничем невозможно было ублаготворить замкнувшегося в своих заботах патрона, никаким усердием не удалось бы задобрить его, затаившегося, подобно скорпиону, за бюро, над которым он ядовито поблескивал стеклами очков, по-мышиному шелестя бумагами. Возбуждение его росло, и по мере того как усиливался солнечный жар, в нем все больше поднималось какое-то неясное остервенение. На полу пылал четырехугольник света. Стальные, сверкающие полевые мухи молниями прочерчивали вход в лавку, на миг садились на дверной косяк, словно выдутые из металлически поблескивающего стекла — стеклянные пузыри, выдохнутые из горячей трубочки солнца на стекольном заводе пламенного этого дня, — замирали с распростертыми крыльями, исполненные полета и стремительности, и яростными зигзагами менялись местами. В светлом прямоугольнике двери млели в сиянии далекие липы городского парка, отдаленный колокол костела в прозрачном мерцающем воздухе маячил совсем близко, как в линзе подзорной трубы. Горели жестяные крыши. Над миром вздымался огромный золотой купол зноя.
Раздражение отца росло. Изнуренный диареей, болезненно скорчившись, он беспомощно оглядывался по сторонам. Во рту был вкус горче, чем от полыни.
Жара росла, обостряла ярость мух, искрами высвечивала яркие точки на их брюшках. Четырехугольник света дополз до бюро, и бумаги пылали, как Апокалипсис. Глаза, залитые чрезмерностью света, уже не в силах были удержать его белую однообразность. Через толстые хроматические стекла очков все предметы отцу виделись обведенными пурпуром, с фиолетово-зеленой каемкой, и его охватывало отчаяние от этого взрыва цветов, от этой анархии красок, безумствующей над миром в лучащихся оргиях. Руки у него тряслись. Нёбо было горькое и сухое, как перед приступом. Глаза, затаившиеся в щелочках морщин, внимательно следили за развитием событий в недрах тела.
2
Когда в полдень отец, уже на грани безумия, обессилевший от духоты, трясясь от беспричинного возбуждения, ретировался в верхние комнаты, и полы второго этажа потрескивали то здесь, то там под его подстерегающей, слегка припадающей походкой, в лавке наступал период передышки и расслабления — наступало время послеполуденной сиесты.
Приказчики кувыркались на штуках сукна, разбивали на полках суконные шатры, устраивали качели из драпировочных тканей. Они разворачивали глухие свертки, выпускали на свободу мохнатую, многократно свитую столетнюю тьму. Слежавшийся за долгие годы плюшевый мрак, выпущенный на волю, скапливался под потолком лавки ароматами иного времени, запахами былых дней, что терпеливо складывались бесчисленными слоями в давние холодные осени. Слепые моли сыпались в помрачневший воздух, пушинки и шерстинки кружили по всей лавке вместе с этим посевом тьмы, и запах аппретуры, глубокий и осенний, наполнял темное становище сукон и бархата. У приказчиков, расположившихся биваком в этом становище, в голове были только шутки да проказы. Они позволяли плотно заматывать себя по самые уши в темное прохладное сукно и лежали рядком, блаженно недвижимые под стопой сукна — живые лики, суконные мумии, хлопающие глазами в притворном страхе от своей неподвижности. А то давали раскачивать и подбрасывать себя под потолок на большущих растянутых полотнищах сукна. Глухое хлопанье полотнищ и дуновения колеблемого воздуха приводили их в неистовый восторг. Казалось, вся лавка срывается в полет, сукна вдохновенно поднимались, приказчики взлетали с развевающимися полами, точно пророки, в мгновенных вознесениях. Мама смотрела сквозь пальцы на эти забавы, общее расслабление в часы сиесты оправдывало в ее глазах любые проделки.
Летом лавка дико и неряшливо обрастала сорняками. Со двора, со стороны склада, все окно было зеленым от бурьяна и крапивы, становилось подводным и мерцающим от лиственного блеска, от колышущихся отблесков. В полумраке долгих летних вечеров на нем, как на дне старой зеленой бутылки, жужжали в неизлечимой меланхолии мухи — болезненные и уродливые экземпляры, взращенные на сладком отцовском вине, мохнатые отшельники, целыми днями оплакивающие свою проклятую судьбу в нескончаемых однообразных эпопеях. Эта дегенеративная порода магазинных мух, склонных к диким и неожиданным мутациям, изобиловала причудливыми особями, плодами кровосмесительных скрещиваний, и вырождалась в некую сверхрасу грузных гигантов, ветеранов с глубоким горестным тембром, неукротимых и угрюмых друидов собственных мучений. А под конец лета выводились наконец одинокие эпигоны, последние из рода, смахивающие на больших синих жуков, уже немые и безгласные, с зачаточными крыльями, и они заканчивали унылую свою жизнь, свершая неутомимые, бессмысленные пробеги по зеленым стеклам.
Читать дальше
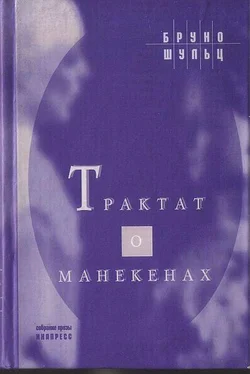





![Єжи Фіцовський - Регіони великої єресі та околиці. Бруно Шульц і його міфологія [З ілюстраціями]](/books/180052/Єzhi-fІcovskij-regІoni-velikoЇ-ЄresІ-ta-okolicІ-b-thumb.webp)



