1
В июле отец уезжал на воды, оставляя меня, мать и старшего брата на растерзание хмельным, белым от зноя летним дням. Одурев от их блеска, перелистывали мы эту большую книгу каникул с пылающими от света страницами, на дне которых лежала сладкая до истомы мякоть золотых груш.
Сияющим утром возвращалась Аделя — как Помона из пламени раскаленного дня — и высыпала из корзины цветастые дары солнца: поблескивающую, влажную под прозрачной кожицей черешню и таинственную черную вишню — ее запах превосходил то, что способен был дать вкус, и абрикосы, чья золотая мякоть была самoй сердцевиной длинных послеполуденных часов, а по соседству с этой чистой поэзией фруктов выкладывала она наполненные силой и сытостью куски мяса с клавиатурой телячьих ребер и водоросли овощей, похожие на мертвых осьминогов и медуз — это сырье для обеда, с неоформленным, яловым еще вкусом, вегетативные и теллурические компоненты обеда с дикими, полевыми запахами.
Через полутемную квартиру на втором этаже каменного дома на рыночной площади ежедневно насквозь проходило большое лето: и тихо подрагивающие артерии воздуха, и сияющие квадраты, прикорнувшие на полу в своих жарких снах, и извлеченная из золотой струны дня мелодия шарманки, и два-три такта мотива, которые снова и снова наигрывало где-то фортепиано — оброненные в пламени глубокого дня, сомлевшие под солнцем на белых тротуарах. Сделав уборку, Аделя задергивала полотняные занавески и запускала в комнаты тень. И краски брали на октаву ниже: комната, словно в освещенную морскую глубину, погружалась в тень, мутно отражаясь в зеленоватых зеркалах, а весь дневной зной дышал на занавесках, слегка колеблясь в полуденных грезах.
По субботам после полудня мы с матерью шли на прогулку. Из полумрака подъезда сразу попадали мы в солнечную купель дня. Окутанные золотом прохожие щурились от солнечного сияния, словно веки им склеил мед, а приподнятая верхняя губа открывала зубы и десны. И у всех, кто брел по золотистому дню, на лице была одна и та же гримаса зноя, будто солнце надело на каждого своего приверженца одну и ту же маску — золотую маску солнечного братства, и все — старые и молодые, дети и женщины — при встрече на улицах, ощерясь вакхической гримасой, на ходу приветствовали друг друга этой маской — нанесенным на лицо толстым слоем золотой краски, маской варварского языческого культа.
Рыночная площадь была пуста, желта от зноя, горячий ветер, как с библейской пустыни, смел с нее всю пыль. Колючие акации, росшие на пустыре желтой площади, вскипали светлой листвой, гроздьями искусно выполненной зеленой филиграни, словно деревья на старинных гобеленах. Казалось, деревья заигрывают с ветром, театрально взвихрив кроны, чтобы в патетических поклонах продемонстрировать, будто благородный мех лисицы, изысканное серебристое подбрюшье вееров своей листвы. Старые дома, которые дни напролет шлифовал ветер, тешились теперь отблесками воздушного простора, эхом, припоминанием красок, рассеянных в толще живописной погоды. Казалось, целые поколения летних дней (словно терпеливые штукатуры, сбивающие заплесневевшую штукатурку с фасадов) соскребали фальшивый глянец, понемногу изо дня в день извлекая на свет настоящие лица домов, сформированные изнутри жизнью и судьбой. Ослепленные блеском пустой площади, спали окна, балконы признавались небу в своей пустоте, из отворенных дверей пахло прохладой и вином.
В углу площади кучка оборванцев, не выметенная оттуда огненной метлой зноя, обступила участок стены и снова и снова подвергала его испытанию, бросая в него пуговицы и монеты, как будто гороскоп этих металлических кружков мог поведать им настоящую тайну стены, покрытой иероглифами шрамов и трещин. Остальная часть площади была пуста. Казалось, в полумрак сводчатого подъезда с бочками виноторговца из тени дрожащих на ветру акаций подведут сейчас за узду ослика Самаритянина, и двое слуг заботливо снимут страдальца с раскаленного седла и осторожно поведут его по прохладной лестнице в пахнущий шаббатом дом.
Так странствовали мы с матерью по двум солнечным сторонам площади, проводя, как по клавишам, по всем домам нашими изломанными тенями. Квадраты брусчатки медленно проходили под нашими мягкими и равномерными шагами — одни светло-розовые, как кожа человека, другие — золотые и синие, но все ровные, теплые, бархатные от солнца, словно солнечные лица, затертые подошвами до неузнаваемости, до сладкого смирения.
Читать дальше



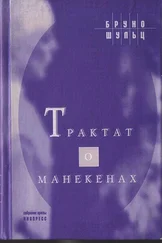



![Єжи Фіцовський - Регіони великої єресі та околиці. Бруно Шульц і його міфологія [З ілюстраціями]](/books/180052/Єzhi-fІcovskij-regІoni-velikoЇ-ЄresІ-ta-okolicІ-b-thumb.webp)


