Несколько существенных замечаний о нашем провинциальном музее послужат лучшему пониманию проблемы… Истоки его уходят в XVIII век и связаны с достойным удивления коллекционерским пылом отцов базилианов, которые одарили город этим паразитическим наростом, что отягчает городской бюджет непомерными и непродуктивными расходами. В течение многих лет казна Республики, купившая за бесценок у обедневшего монастыря это собрание, более подходящее для какой-нибудь королевской резиденции, великодушно тратилась на подобное меценатство. Однако уже следующее поколение отцов города, ориентированных куда более практически и не закрывающих глаза на требования экономики, после безуспешных переговоров с управлением эрцгерцогских коллекций, каковому они пытались этот музей продать, закрыло его, ликвидировав правление и назначив последнему хранителю пожизненную пенсию. Во время переговоров эксперты вне всяких сомнений установили, что ценность этого собрания была нашими городскими патриотами непомерно завышена Благочестивые монахи приобрели в похвальном запале немало подделок. В музее не оказалось ни одного полотна художника первого ряда, но зато были большие коллекции второ- и третьеразрядных, целые провинциальные школы, давно забытые, известные лишь специалистам, тупики истории искусства.
Странное дело, но у благочестивых монахов были воинственные пристрастия: большая часть картин относится к батальной живописи. Спекшийся золотой сумрак темнеет на этих истлевших от старости полотнах, на которых эскадры галер и каравелл, старинные забытые армады дряхлеют в бухтах, откуда нет выхода, колыша на вздутых парусах величие давно исчезнувших республик. Под законченным, потемневшим лаком смутно виднеются контуры конных схваток. В пустоте сожженных полей под темным и трагическим небом в грозной тишине мчатся беспорядочные кавалькады, обрамленные с обеих сторон клубами и цветной сыпью артиллерийского огня.
На картинах неаполитанской школы без конца старятся смуглые, подкопченные дни, видимые словно бы через темную бутылку. И кажется, будто потемневшее солнце увядает на глазах в этих обреченных пейзажах, точно в преддверии космической катастрофы. Потому так пусты улыбки и жесты золотых рыбачек, продающих с маньеристским очарованием связки рыб бродячим комедиантам. Этот мир давно обречен и давным-давно минул. И тем объясняется безграничная сладость последнего жеста, который один лишь и длится еще — далекий самому себе и утраченный, повторяемый снова и снова и навек уже неизменный.
А еще дальше в глубине этой страны, населенной беззаботным народцем шутов, арлекинов и птицеловов с клетками, в стране без основательности и реальности маленькие турчанки пухлыми ручками лепят на досках медовые лепешки, а двое мальчишек в неаполитанских шляпах несут корзину с гулькающими голубями на палке, которая чуть прогибается под крылатым, воркующим грузом. А еще глубже, на самом пределе вечера, на последнем краешке земли, где на границе мутно-зеленого небытия колышется увядающий пучок аканта, все продолжается игра в карты, последняя людская ставка перед надвигающейся беспредельной ночью.
Весь этот склад одряхлевшей красоты подвергался болезненной дистилляции под давлением долгих лет скуки.
— Способны ли вы постичь, — вопрошал отец, — отчаяние обреченной этой красоты, ее дни и ночи? Вновь и вновь порывается она к иллюзорным торгам, инсценирует удачные распродажи, шумные многолюдные аукционы, вовлекается в страстную азартность, играет на понижение, по-мотовски расшвыривает, расточает свое богатство, чтобы, отрезвев, обнаружить, что все это тщетно и не выводит из замкнутого круга приговоренного к самому себе совершенству, не способно облегчить болезненной преизбыточности. И нет ничего странного в том, что это нетерпение, эта беспомощность прекрасного ввинтились в конце концов в наше небо, разгорелись заревом на нашем горизонте, выродились в атмосферное шарлатанство, в те огромные и фантастические облачные постановки, которые мы зовем нашей второй, нашей псевдоосенью. Эта вторая осень нашей провинции является не чем иным, как болезненной фатаморганой, что в увеличенном масштабе спроецирована на небосклон умирающей, замкнутой красотой наших музеев. Эта осень — громадный странствующий театр, что лжет поэзией, огромная красочная луковица, с которой слой за слоем слущиваются все новые и новые панорамы. И в ней никогда не добраться ни до какой сердцевины. За каждой кулисой, когда она увянет и, шурша, свернется, открывается новая лучистая перспектива, миг-другой живая и подлинная, покуда, угаснув, она не выдаст своей бумажной природы. И все перспективы в ней рисованные, все панорамы из картона, только лишь запах настоящий, запах увядающих кулис, запах гигантского гардероба, грима и ладана. А в сумерки чудовищный беспорядок и путаница кулис, сумбур брошенных костюмов, среди которых бродишь без конца, как среди шуршащих облетевших листьев. И огромная неразбериха, и каждый тянет за шнуры занавесов, и небо, бескрайнее осеннее небо, висит лохмотьями перспектив и преисполнено скрипа блоков. И торопливая горячечность, запыхавшийся и припозднившийся карнавал, паника предутренних бальных зал, и вавилонская башня масок, которые не могут отыскать свои истинные облачения.
Читать дальше
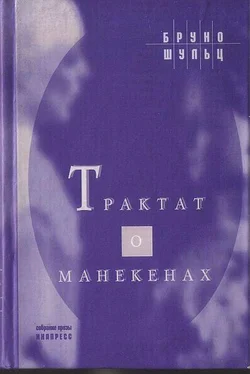





![Єжи Фіцовський - Регіони великої єресі та околиці. Бруно Шульц і його міфологія [З ілюстраціями]](/books/180052/Єzhi-fІcovskij-regІoni-velikoЇ-ЄresІ-ta-okolicІ-b-thumb.webp)



