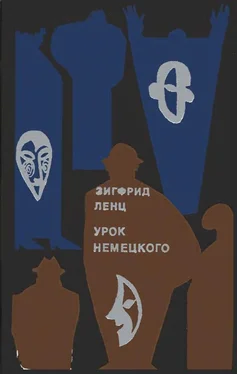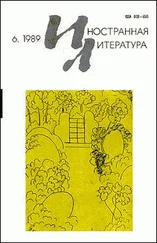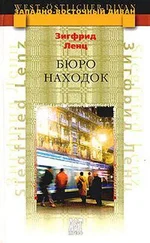Хотел он того или не хотел, но каждое слово звучало угрозой, я больше не в силах был слушать, как он поносит все с тем же остервенением работающего отца, и, пятясь назад, двинулся к дому и видел, что отец снова взмахнул топором, указывая на кирпичную дорожку; все так же пятясь, я поднялся по лестнице, меня бросало в жар и холод, в висках ломило, стучало, теснило, и у себя в комнате я стал кулаком месить под ложечкой. Неужели они все еще стоят у сарая? Да, они все еще стояли внизу, художник — вполоборота, видимо собираясь уйти, но, поскольку он уже начал этот разговор, ему, должно быть, хотелось скачать с души все — досаду, накопившееся бешенство — и наперед предостеречь. Отец то отвечал, то задавал встречный вопрос, то просто смотрел на своего противника с медлительным, как мне казалось, удивлением, хладнокровно и как бы даже свысока. Если вы спросите о превосходстве, я затруднился бы сказать, кому из них принадлежало превосходство в этом столкновении у сарая.
Наконец Макс Людвиг Нансен ушел, мне было так невыносимо тяжко, что я мысленно подгонял его, а когда он в нерешимости остановился на кирпичной дорожке, подумал: «Да уходи же, уходи!» В прихожей царила тишина. Хильке больше не давала о себе знать, должно быть, сама раздобыла себе бутерброд с повидлом; из-за двери в спальню доносилось однообразное завывание, не только издавна знакомые, но даже успокоительные звуки — мать могла часами поддерживать эту музыку. Я отвязал веревку от дверцы чердачного люка: дернешь — и люк откроется, еще раз дернешь — и «патентованная» лестница, которую достал нам Хиннерк Тимсен, соскользнет вниз. Взобравшись на чердак, я, как в свое время на мельнице, втянул лестницу наверх и закрыл люк. Спокойно, сказал я себе, не волноваться! Тут где угодно можно спрятаться и что угодно спрятать! Здесь меня никто не найдет!
Сюда приходили, может быть, раз в год, чтобы сложить ненужный хлам, с которым жалко было расстаться, а Йепсены не в силах были расстаться даже с самым негодным хламом. Старые матрацы, просиженные диваны, бельевые корзины, кухонные столы, рассыпающиеся стулья, горы устаревших выкроек и книг, сундучки с испорченными замками — все это сносилось сюда и обрекалось вечным сумеркам и безмолвному распаду. Все было брошено как попало, в полном беспорядке, убрали — и с глаз долой. Тут камин, вымазанный какой-то коричневой дрянью, там шкаф с полуоткрытой дверцей, рядом маленькое косое оконце, которое никогда не открывалось.
Я снял башмаки и прокрался к окну, словно опытный гимнаст, преодолевая встречные препятствия. Со двора доносились тюканье топора и треск раскалываемого дерева. Вот он, мой ящик, прикрытый бумагой и старыми мешками, заставленный ломаными стульями. Я убрал маскировку, снял несколько листов промасленной бумаги, поднял крышку и присел. Стоило мне увидеть мою новую коллекцию в целости и сохранности, и недомогание мое как рукой сняло, в висках больше не стучало и не ломило.
Я извлек «Танцующую в волнах» и поставил ее на край ящика. Сверху в косое оконце скупо сочился свет, и Хильке танцевала передо мной среди маленьких играющих волн. Мне вдруг показалось страшно важным видеть перед собой Хильке в ее короткой полосатой юбчонке, с упругими грудями, эту Хильке, которая, изнемогая от усталости, не переставала танцевать перед сверкающим побережьем. Никто, никто, кроме меня, не увидит эту картину, решил я, да и остальные картины будут существовать только для меня, чему-то они меня учили, чему-то очень для меня важному. Стучали.
Услышав стук, я подумал, что это ругбюльский полицейский бьет топорищем по чурбаку, чтобы крепче насадить топор, но нет, стучали в дверь камеры — и не робко, как стучал Йозвиг, а резко, отчаянно, стук не только возвещал о приходе Вольфганга Макенрота, но также говорил о его изменившихся к худшему обстоятельствах. Так стучат, сказал бы я, когда считают себя вправе прийти к другу и поделиться своим горем.
Я еще не успел повернуться к двери, как он уже ворвался в распахнутом макинтоше и, даже не подождав, пока за ним запрут дверь, бросился ко мне, вовсе не думая о том, как бы лучше повести себя с трудновоспитуемым молодым человеком, который к тому же исследуемый в твоей дипломной.
— Дерьмо! — сказал он. — Я с головой увяз в дерьме, Зигги, этого не описать словами, можно сесть? — Рассеянно похлопав меня по плечу, юный психолог плюхнулся на койку с видом, мало сказать, несчастным — с видом утопающего! Опять что-то случилось? Но первым делом сигареты, сегодня пять пачек, две из них от Хильке. Он бросил мне одну пачку, остальные сунул под одеяло и обреченно покивал в пространство, это могло значить либо: «Все, крышка!», либо: «Мир отнюдь не таков, каким мы желали б его видеть». Ловко вытряхнув из жестяной коробочки две желтые таблетки, он слизнул их с ладони и без всякого усилия проглотил.
Читать дальше