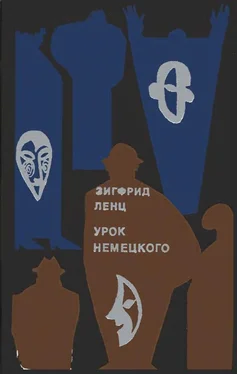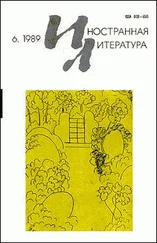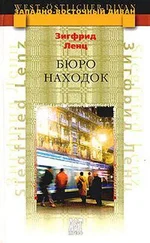— Где картина? Давай ее сюда, я пришел за картиной.
— Картина? — удивился я. — Какая картина?
— Не заговаривай мне зубы, не притворяйся, отдай картину, и дело с концом. Ты знаешь, что я имею в виду: «Танцующую в волнах».
— А разве она пропала?
— То-то что пропала, и я пришел за ней, если тебе требуется объяснение, ну?
— Да не брал я твою картину.
— Я все перерою.
— Ищи сколько хочешь, а только картины здесь нет.
— Послушай, Зигги, если ты не вернешь мне картину, тебе больше не видать Блеекенварфа. Я знаю, что тебя заставило ее взять, но эту картину ты обязан вернуть. Я пришел за ней.
— Да нет же ее здесь.
— А вот увидим, — сказал художник, схватил меня за руку и потянул по лестнице наверх. — Ведь это твоя комната?
— Моя.
— А тогда открой, да поживей.
Видели бы вы, как он ворвался ко мне в комнату и начал ее обыскивать! Дойдя до середины, он пригнулся и давай обшаривать ее по кругу в поисках тайника.
Я стоял у окна и следил, как он перебрал все на полке, как снял со стола морскую карту, как перерыл кровать, я наблюдал его попытки отыскать в сундуке то, чего там и быть не могло, уже судя по его размерам, под конец он даже стал на колени и заглянув под лоскутный ковер. И все не успокаивался. Он был так уверен в правильности своей догадки, что, обшарив все сверху донизу, подошел ко мне и принялся меня трясти, приговаривая: — Где-где-где картина? — на что я, так же приговаривая, отвечал ему: — Не знаю-не знаю-не знаю. — У тебя она! — Да нет ее у меня! — Ты видел, что она под угрозой, и захотел ее спасти. — Нет, только не эту картину, не «Танцующую в волнах». — А тогда кто-то другой из вас унес ее, кто-то из вашего семейства. — Он схватил меня за ворот, собрал рубашку в массивный, сильный свой кулак, крутанул, поднял меня на воздух — и так, на вису, глаза в глаза, повторил свое обвинение, но услышал от меня все то же «нет». Мне удалось устоять против его хватки, против его взгляда, я еще умудрился подумать: «Кто это колет там дрова?», потому что в наше объяснение вторглось донесшееся со двора, из сарая, тюканье топора. Ясно, отец! Он поздно прибыл на место аварии, когда пострадавшие успели, как говорится, разойтись по домам, а поскольку поленница уже не первую неделю была у него на совести, то он и собрался с ней разделаться: отходы с глюзерупской лесопилки.
Увидев отца через мою голову, художник отпустил меня и, отстранив рукой, пошел к двери. Он спустился вниз, в прихожей закурил трубку, с чрезмерной, пожалуй, важностью сошел по каменным ступеням и, попыхивая короткими затяжками, повернул к сараю. Отец его покамест не видел или притворялся, что не видит; он сосредоточенно, с каким-то остервенением колол поленья. Аккуратно положив на чурбак коротко отпиленный кругляш, он отступал назад, еще примериваясь, замахивался и, не вкладывая в удар особой силы, а как бы только направляя движение топора, обрушивал его на обрубок таким рассчитанным ударом, что, расколотый пополам, он так и оставался лежать на чурбаке, и отец сбрасывал его тыльной стороной руки. Ну, подними же наконец голову! Он, конечно, давно приметил художника, остановившегося перед кучей наколотых дров; наклоняясь за новым поленом, он не мог не видеть башмаки художника и его плащ, но делал вид, будто он на дворе один. Я еще подумал: «Поглядим, сколько отец заставит художника ждать, поглядим, насколько у художника хватит терпения дожидаться». У нас это умеют — видеть и делать вид, будто не видят, и о том, кто не выдержит, сдастся, уступит, говорят: не сдюжил, кишка тонка. Отец замахивался топором, топор въедался в дерево, старый наш топор с засохшими на лезвии следами голубиной крови. Художник попыхивал трубкой и следил за отцом узкими щелками глаз. Стало быть, ничего не менялось? Не скажите, отец все наращивал темп, наращивал остервенение, он уже не примерялся как следует и этим выдавал себя.
Я мог бы на добрую неделю затянуть это их визави, но по справедливости должен признать, что художник сдался, — подняв отлетевшую половинку, он бросил ее на кучу со словами:
— Не торопись, я могу и подождать.
Отец ничего не сказал в ответ, он только, намуслив большой палец, смущенно провел по острию и продолжал свою работу, да неудачно вогнал лезвие в древесину суковатого обрубка, который не только не раскололся с первого раза, а даже взлетел вместе с топором, да так его и не отпустил; полицейскому потребовалась вся его сила, чтобы расколоть зловредный обрубок. И снова к ногам художника полетела половинка, и снова он подобрал ее и швырнул на кучу.
Читать дальше