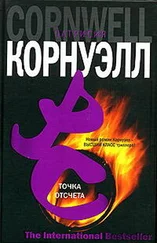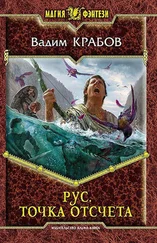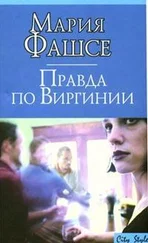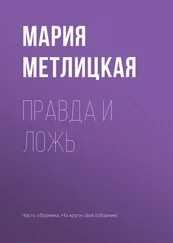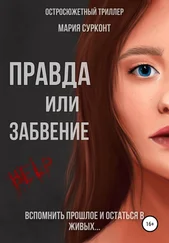— Ефрейтор, говоришь? Это хорошо! — Николай искренне расхохотался. — Это, брат, удружил ты мне!
— Рад стараться!
Николай всмотрелся в его свежее круглое лицо. Армия, гвардия, 60 тысяч штыков. Сомнут: говорил Милорадович. А каждый штык — это вот такой симпатичный голубоглазый деревенский паренек, который ничего и знать не знает о судьбах империи.
— А как зовут тебя, Филимонов?
Солдат просиял.
— Меня? Серегой… Сергей, Ваше императорское высочество!
— Будь здоров, Серега!
Слова эти отозвались дивной музыкой в душе Филимонова. «Будь, здоров, Серега». Ведь так и сказал: Серега! Эх, жаль, не поверят!
…К концу недели положение Мишеля стало невыносимым. Казалось, весь Петербург ждал от него ответа на самые неприятные вопросы. Все ездили к нему представляться, все ждали от него присяги. В субботу он буквально сбежал из дома и отправился к брату в Аничков дворец. Был канун зимнего Николина дня, и в иное время обед был бы праздничный, но сейчас о наступающих именинах не говорилось ни слова. Впрочем, за обедом, где были они всего втроем, Николай был полон энергии и почти весел.
— Веришь ли, Мишель, я добился определенных успехов, упражняясь со штыком. Покойник Ламздорф гордился бы мною. Вообрази, солдат у нас в караульной аттестовал меня ефрейтором!
— Ну–ну, замечательно, mon cher! — улыбнулся Мишель. — А ты, как прежде, каждый день занимаешься?
— Каждый день, в любую погоду. Иначе нельзя. Лень, тоска, смерть. Я вот и Шарлотту пытаюсь уговорить позаниматься по моей методе, но она ни в какую!
Шарлотта слабо улыбалась. Она только что жаловалась Мишелю на меланхолию. Конечно, интересно и хорошо иметь всегда в доме маленького ребенка, но и отдохнуть бы от детей не мешало. Последние, четвертые, роды полгода назад были трудными, и Великая княгиня до сих пор не пришла в себя. Однако сегодня ее грусть и слабость были вызваны нервическими переживаниями — это было очевидно. Николай взял со стола ее руку и поднес к губам: «Не грусти, птичка, переживем… А теперь оставь нас с Мишелем, мой ангел». Шарлотта послушно встала, расцеловалась с мужем и Мишелем и вышла из комнаты. Мишель с улыбкой посмотрел ей вслед.
— У вас, как обычно, пастораль, даже скучно. Живете, как два голубка, — отметил он.
— А по–другому и быть не может, mon cher, — семья прежде всего, — с этими словами Николай поднялся, взял рюмку мадеры, которую он разрешил себе в честь праздника, и подошел к камину.
— Вот что, друг мой. Мы с матушкой считаем, что так далее продолжаться не может. Положение твое крайне двусмысленное.
Мишель в сердцах всплеснул руками.
— Это вы с матушкой считаете? А мне каково?
— Поэтому нет другого выхода, кроме как снова сей же час отправиться тебе в Варшаву, якобы успокоить брата насчет здоровья императрицы. А на самом деле будешь по дороге почту вскрывать и действовать сообразно. В Варшаве на словах передашь Константину, ежели у него есть сомнения об наших действиях: действовали так, ибо в противном случае пролилась бы кровь.
— Ну это никогда не поздно, пролить кровь, — не удержался Мишель. — В нашей стране за этим дело не станет!
Николай помрачнел и одним глотком допил свою мадеру.
— Только не каркай, умоляю тебя, я этого не люблю. И поезжай с богом.
Мишель понял, что это приказ. Брат стал ефрейтором, а его сегодня разжаловали в фельдъегеря…
6 ДЕКАБРЯ 1825 ГОДА, ВОСКРЕСЕНЬЕ, АДМИРАЛТЕЙСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ 6, С. — ПЕТЕРБУРГ
Николая Александровича Бестужева ждали у Рылеева, но сегодня был Николин день, его именины, и день этот он всегда старался, если не был в плавании, проводить с Любой. Конечно же они будут вместе не весь день кряду — сие невозможно, следственно, можно успеть и к Рылееву, но сейчас, как и ранее, когда вставал выбор меж важнейшими обязательствами в его жизни — между Обществом и Любовью, Николай Александрович всякий раз испытывал душевный разлад. На этот раз разлад был тем сильнее, что он — вместе с другими членами общества — поклялся держать все в тайне от близких. Товарищи его дали клятву не задумываясь, как само собой разумеющееся, да и женатых среди них было немного. Николаю Александровичу казалось, что они и без клятвы не посвящали бы в свои дела жен. Взять хотя бы милого друга Кондратия — никогда бы не пришло ему в голову делиться политическими планами со своей Натальей Михайловной. Однако Николай Александрович привык рассказывать своей избраннице совершенно все, что его занимает, привык он и советоваться с нею по всем мелочам, даже касающимся работы. Люба всегда вникала и могла сделать дельное замечание, особливо по поводу отношений с людьми по службе. Что делать? Она была его женщиной, как сказали бы братья–масоны, его каменщицей. Кстати говоря, символические женские перчатки, полученные им по вступлении в ложу лет пять назад, отдал он ей, ибо, как сказано в уставе, да не украсят рук недостойных!
Читать дальше