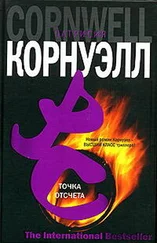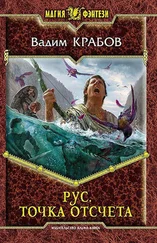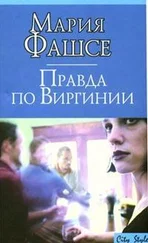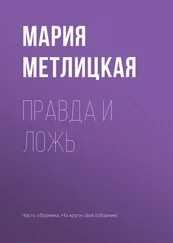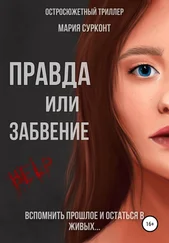— Золотые руки, Николушка, — сказала она, оглядывая работу, легко, кончиками пальцев, трогая виски, — лучше, чем было. Куда ты нынче?
Он боялся этого вопроса. Лгать не мог он и не умел, а она внимательно смотрела на его отражение в зеркале, пока он аккуратно закалывал ей шпильками сзади последние завитушки.
— К Рылееву.
Она слегка поджала губы. О, как он знал все ее выражения. Ревнует!
— Опять к Рылееву?
— Сашу повидать и насчет альманаха, — невнятно ответил Николай Александрович, вынимая изо рта очередную шпильку. Люба, кажется, удовлетворилась объяснением.
На столике перед зеркалом лежал его подарок на день ангела. Это был брелок на часы — серебряный кораблик на шелковой ленточке, она все спрашивала, похоже ли. Оказывается, заказано было у известного ювелира, коему была выдана для образца гравюра: фрегат «Проворный». Николай Александрович как–то сказал ей, что это было самое счастливое его плавание. Он–то видел, что, ежели бы крошечные серебряные мачты и паруса были всамделишными, никто никуда бы не поплыл, да это неважно было. Важно было то, что пушистые, как в шутку называл он их, глаза Любы, большие, серые, в густых черных ресницах, светились детской радостью:
— Правда, Коко? Правда похоже?
— Ты моя любовь прекрасная, — он снова целовал ее полные плечи.
— Жаль, что меня не назвали Вера, — заметила Любовь Ивановна, — или Надежда. Любовь — это как–то слишком…
8 ДЕКАБРЯ 1825 ГОДА, ВТОРНИК, РИЖСКИЙ ТРАКТ
И снова та же самая опостылевшая почтовая дорога! Снова сани, снова хлопает на ходу медвежья полость, снова бубенцы, снова убогие станционные лачуги. Теперь Мишелю было некуда спешить, и, даже несмотря на все неудобства пути, он никуда не хотел попасть — ни в Варшаву, ни в Петербург. Он так устал от интриг за три дня у себя дома, что был рад уехать куда угодно, только бы во все это не ввязываться. «Кости не хочет быть царем, а Ника хочет. На здоровье вам всем, да и черт с вами, с обоими. Оставьте мне мою жизнь и перестаньте гонять меня по полям, как зайца. Мне повезло, братцы, более, чем вам, — меня никто никогда не притянет к этому пропащему месту. Надо быть безумцем, чтобы желать этой погибельной должности. Кости прав — не пощадила она ни деда, ни папеньку!», — с этими мыслями Михаил Павлович въехал в Лифляндскую губернию.
Станция Теев была засыпана снегом, смеркалось, дорога была плохая. Великий князь планировал сегодня добраться до Ниенналя, где можно было заночевать с относительным удобством у губернатора, но еще час назад понял, что не судьба. Рисковать людьми и лошадьми нынче не было никакого смысла. К счастью, станционный смотритель оказался немцем — тараканов в доме не было видно, стол был накрыт настоящей белой скатертью, а в соседней комнате виднелась пышная постель. Михаил Павлович сбросил на лавку шубу, размотал шарф и подсел к столу. Люди таскали в комнаты продукты и вещи. Перепуганный немец, оробевший от стольких важных особ — даже нарядный камердинер Великого князя показался ему важным, — беспрестанно кланялся и извинялся.
— Не бойся, братец, — милостиво произнес Мишель по–немецки, — помоги накрыть к ужину да поешь с нами, провизии у нас полно.
Он расстегнул высокий жесткий воротник. Когда все это кончится, наконец! Чертова дорога… В этот момент дверь отворилась, пахнуло холодом и вошел еще один проезжий в длинной шинели.
— Ба, Лазарев! — воскликнул Мишель. Это был адъютант брата Николая Павловича. — Никак из Варшавы?
— Так точно, Ваше высочество. — Лазарев отдал честь, положил на лавку увесистый пакет и начал медленно, замерзшими пальцами, расстегивать заснеженную шинель.
— С письмами от Константина? — Мишель встал, прошелся по комнате, потом опять сел. — Давай–ка их сюда!
Лазарев был смущен. Письма, запечатанные личным клеймом цесаревича Константина, были адресованы главе Государственного совета, императрице Марии Федоровне и… императору Николаю Павловичу — в собственные руки.
— Давай–ка их сюда — у меня есть бумага от императрицы. Я уполномочен вскрывать всю варшавскую почту.
Адъютант колебался.
— Ты не веришь моему слову, Лазарев? Тебе бумагу принесть? — Мишель сощурился.
— Никак нет, Ваше высочество. — Лазарев протянул ему пакет. Мишель, непослушными от волнения руками вскрыл негнущийся, с мороза, конверт. Вот оно! Вот оно! Константин Павлович явно писал сам — его небрежный почерк, его резкие выражения. Он категорически отказывался от престола. В этот момент Мишель ясно видел перед собою лицо брата, его упрямый белесый взгляд, но главным образом, и это было ему страшно сказать себе, он видел, до какой степени Кости ненавидит Россию. Господи, какие выражения! Есть ли хоть одно официальное письмо? Да, слава богу, вот оно — «Торжественное объявление соотичам». Константин наконец назвал присягу недействительной. Мишель тяжело вздохнул, потом поднял глаза на Лазарева, который так и не решился сесть при нем.
Читать дальше