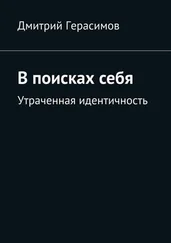Став русским по паспорту, Лёня, конечно, не стал настоящим русским: ни православной веры, ни народных поверий, ни прежних праздников, ни гордости за империю или за прошлое, ни тех невидимых корней, что растут от дедушек-бабушек, из веков. Напротив, он чувствовал себя оскорбленным и униженным – да чем русские лучше евреев? Но и настоящим евреем он уже не был. Традиции к тому времени оказались разрушены, и он не знал ничего: ни язык, ни историю, ни праздники – ни рош-га-шана 126, ни пурим 127, ни суккот 128, только про йом-кипур 129Лёня случайно прочел в детстве в каком-то рассказе Короленко, да иногда на пейсах 130угощался мацой. Мацу, как последнюю реликвию, как тонюсенькую ниточку, связывавшую с праотцами, привозили иногда из Москвы, где находилась чуть ли не единственная в огромной стране синагога, и по нескольку тоненьких, хрустящих пластинок делились друг с другом. Одним словом, манкурт. Слово это, с легкой руки Чингиза Айтматова, как раз в шестидесятые широко вошло в обиход.
Леонид Вишневецкий смолоду любил размышлять, иной раз на часы погружаясь в мечты, и у него была замечательная память: стихи он запоминал обычно с первого раза – по наследству, потому что многие поколения его предков веками размышляли над Талмудом и над великими книгами бытия и напрягали свою память, чтобы вызубрить наизусть священные тексты. Непростыми были эти предки – лишь в начале восьмидесятых под великим секретом Леонид узнал от мамы незадолго до ее смерти, что среди них встречались знаменитые когены 131и левиты 132, раввины, прямые потомки служивших в Храме.
В отличие от предков, память Леонида была свободна. В Бога он не верил и Библию прочел, да и то не всю, а лишь самые известные места, уже в новое время, в очень даже зрелом возрасте. А оттого, когда стал научным руководителем на общественных началах, оформил пенсию и несколько лет назад переехал на постоянное место жительства в Израиль, где давно жили дети и родились внуки, с которыми Леонид почти не мог разговаривать, потому что внуки плохо знали русский, а он слабо освоил иврит, у Леонида оказалось очень много свободного времени. А потому онд часто по многу часов гулял вдоль моря, слушал вечный, равномерный шум прибоя или тихую, робкую песнь лижущего песок отлива и думал – вспоминал прошлое; не только свое, но и своего народа.
Как-то в том месте на тель-авивской набережной, где особенно чувствительные люди слышали в тихие звездные ночи едва различимый плач, доносившийся с «Альталены» 133, Леонид Вишневецкий попытался вспомнить, хотел ли он когда-нибудь в действительности стать русским, стыдился ли своего еврейства?
«Пожалуй, да, – думал Леонид. – Пожалуй… Воображал… Но едва ли слишком серьезно…», – воспоминания были размытые, время… Да, слишком много времени утекло… Он давно осознал свою идентичность… Разве что в младших классах, когда дрался с второгодником Сашкой Сурковым. Тот был сильнее и Лёня знал, что Сашка бьет его за то, что он еврей. Лёня испытывал тихое отчаяние, но пытался не заплакать… Тогда жалел, что еврей…
Хотя… И позже Леонид долго пытался скрывать национальность. Но уже вовсе не оттого, что стыдился, а – так нужно было, на всякий случай. Так велели дома. Да, там много чего было напутано… Государственный антисемитизм, как проявление идиотизма системы… И собственное отступничество тоже…
…Лет через десять после того, как с папиной помощью Лёня записался русским, настала очередь племянника Володи, унаследовавшего имя от умершего прадедушки Велвела, получать паспорт. Володя очень сильно переживал, что еврей, и настаивал, чтобы его тоже записали русским. Подобно заправскому антисемиту, но со слезами на глазах, он в отчаянии утверждал, что евреи много хуже русских – жадные, хитрые, трусливые. Его, очевидно, очень сильно затравили в школе и он безвольно комплексовал. Сестра с ног сбилась, пытаясь отыскать знакомых – любой каприз своего мальчика она готова была исполнить, – но так и не добилась ничего. Не нашла нужных людей.
Лёня к тому времени заканчивал аспирантуру, жил по большей части в Москве и смотрел на сопливое отчаяние племянника свысока, называл коллаборационистом и маменькиным сынком – сам он давно переболел; Леонид уже много лет, особенно после Шестидневной войны, ощущал себя евреем и израильским патриотом и тайно подумывал об эмиграции. Его конформизм к тому времени закончился…
…В Ставрополе Лёня учился в двух разных школах. В первой ничего такого не было, он, по крайней мере, не мог ничего вспомнить, но во второй дразнились сильно, как-то даже до слез, особенно летом в колхозе – больше всех этот самый Сашка Сурков, второгодник.
Читать дальше