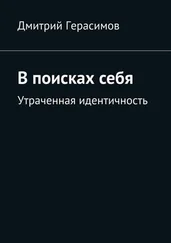Папа, конечно, не хотел выступать, не хотел участвовать в этой грязной кампании, но приходилось – из-за Голубова.
Голубов, красный иезуит, как называл его папа, мало похожий на бывшего пролетария, скорее на старорежимного интеллигента из недоучившихся студентов, старавшийся всегда держаться в тени, возможно, из-за того, что был из Ленинграда, однако вовремя улизнул 112. Голубов долгое время работал в аппарате у Жданова 113и оттого считал себя крупным специалистом в вопросах идеологии, любил выступать на закрытых совещаниях и писать статьи, однако не слишком грамотный – папа не раз убеждался, что этот теоретик почти совсем не читал Маркса, да и Ленина знал плохо, и что знакомство Голубова с марксизмом ограничивалось в основном Кратким курсом и текущими статьями в газетах. Вскоре после смерти Сталина Голубов стал первым секретарем и захотел, чтобы папа написал за него диссертацию. Но это – потом, папа и сбежал из Ярославля из-за Голубова, его тяготила эта странная новоявленная дружба, а в те дни перед смертью Сталина именно Голубов принудил папу ездить на митинги и выступать. Мол, должен каяться за все еврейство…
Так и выходило: папа стоял на трибуне, не один, но словно пустота по сторонам, словно его казнили, не врачей, а внизу бушевало море. Зал гудел, исступленные крики долетали до трибуны. Все пространство будто плавилось от ненависти. «Мне стало не по себе. Я будто увидел лицо кишиневского погрома», – много лет спустя рассказывал папа.
Рабочие и инженеры кричали «Смерть убийцам», «Смерть врачам-отравителям». Исступленно кричали, дружно, друг перед другом и одновременно искренно, но вместе и не сами по себе – среди них находились невидимые дирижеры. Самые активные или подлые поднимались на трибуну. И опять не сами по себе, по специальному списку, куда не так просто было попасть, но от этого папе не было легче.
Годы спустя мама, вспоминая, рассказывала, как известная ткачиха кричала с трибуны: «Вот, посмотрите, что делают евреи! Вот их настоящее лицо!»
Старый партиец, из ленинских еще кадров, помнивший про интернационализм и про мировую революцию, обернулся к Голубову:
– Разве можно так? Разве партия допускает?
– Пусть народ говорит! Пусть говорит все, что наболело!
В один из таких дней папа почувствовал себя плохо и слег в больницу с гипертоническим кризом. Из больницы он вышел только недели через три, когда по радио сообщили о тяжелой болезни Сталина. Папа сразу понял: умер или вот-вот умрет.
Сталин умер так вовремя, что вскоре папа стал думать, будто Отца народов отравили соратники. По меньшей мере совсем немало посодействовали его смерти 114. Не один папа так думал. Много раз Леонид слышал эту версию, что вождя отравили. Но, конечно, никто не мог знать точно, и папа тоже. Леонид запомнил, как папа однажды пошутил:
– Если Сталин умер сам, это служит наилучшим доказательством, что на небе есть Бог и что терпение Его небезгранично.
После смерти Сталина, глубоко несчастного, одинокого, больного, подозрительного и злобного старика, державшего в своих до последнего сильных и жестоких руках судьбы Европы и Азии, началась рахитичная, противоречивая оттепель – третьего апреля, почти через месяц, освободили врачей, а еще через день арестовали организаторов убийства Соломона Михоэлса. Не заказчика, как много позже стали говорить, заказчик вплоть до Двадцатого съезда будет оставаться неприкасаемым идолом, но довольно-таки немаленьких стрелочников.
В высоких кремлевских кабинетах шла жестокая, переменчивая борьба – за власть, за жизнь, за то, чтобы скрыть измаранные в крови одежды. Уже в июне принесенного в сакральную жертву Берию обвиняли на пленуме, что публичной реабилитацией кремлевских врачей он «произвел тягостное впечатление на общественность» 115.
О да, Берия был негодяй, страшный интриган и убийца, сменивший карлика Ежова организатор сталинской машины кровавых репрессий, однако огромнейшая часть вины лежала на других: формально расстрельные списки утверждались не лично Сталиным и не Берией, но всеми членами Политбюро – все были вовлечены в круговую поруку, повязаны кровью, как обыкновенные разбойники. И сталинский недолгий преемник Маленков, очень тучный человек с бабьим лицом и бабьей фигурой, стоявший у истоков «Ленинградского дела» и «дела врачей», и главный «реабилитатор» и «борец со сталинизмом», хитрый и малограмотный Никита Хрущев, бывший в недавнем прошлом одним из ведущих инквизиторов в Москве и на Украине 116, – все были не по локти, но по горло в крови. Берия был лишь самый хитрый, самый страшный и опасный из них и оттого все они его ненавидели и боялись. Папа очень хорошо знал их ; папа много чего знал и умел анализировать и оттого не поверил – ни в возвращение к «ленинским нормам», ни в сами эти нормы. Он знал: бандиты и ортодоксы. Знал, что партия на десятки лет пропитана сталинским ядом. Не мог забыть ни расстрел Еврейского антифашистского комитета, ни «дело врачей», ни истерические митинги, ни множество процессов поменьше, похожих на средневековые 117, ни дикие бунты против врачей-евреев 118, ни упорно циркулировавшие слухи о депортации. Память много чего подсказывала папе, история была не только его профессией, но и стихией – и суд над Бейлисом 119, и эпопею Дрейфуса 120и процентную норму 121, и черту оседлости, и депортации в Первую мировую 122, и погромы: царские еще и красные, буденновские, а оттого папа твердо знал, что с фамилией Клейнман в жизни у Лёни будут немалые проблемы.
Читать дальше