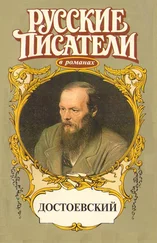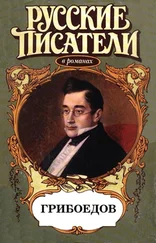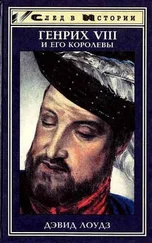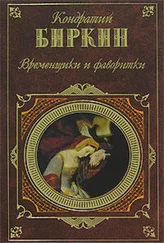Сказал, кивнувши на полную чашу:
— Я вижу, твой отец оставил тебе солидное состоянье.
Придерживая чашу, чтобы слуга не пролил мимо вина, голландец озорно подмигнул:
— Едва ли это отец. Говорят, что отцом моим был служитель Христа.
Поднял руку, сделав испуганное лицо:
— И тебе попадался непьющий прелат?
Мужчина шутовски огляделся по сторонам, пригнулся к самому уху и доверительно прошептал:
— Одного видел. Правда, в гробу. В гробу он не пил. Только нос у него так и не смог побелеть.
Тогда спросил, изображая горячее любопытство:
— Сколько часов прошло после печальной кончины прелата?
Блестя одними глазами, собеседник ответил серьёзно:
— Целых два дня!
— Покачал головой и укоризненно произнёс:
— Надо было подождать хотя бы неделю. Это был такой редкий случай в истории медицины, а ты его упустил!
Незнакомец оросился хорошим глотком и воскликнул:
— В другой раз клянусь быть умным, как ты!
Сурово спросил:
— Разве ты так уверен, что явление, столь непонятное, повторится ещё раз?
Голландец пришёл в неподдельный восторг:
— Ты или Мор, или никто!
Улыбаясь ему, ответил:
— А ты или Бог, или дьявол, или Эразм!
Вскоре они оставили затянувшийся пир и долго, в сопровождении слуг, освещавших им путь фонарями, бродили по городу, петляя по узеньким улочкам, не в силах расстаться, вызывая подозрение стражи, своим появлением нарушавшей время от времени тишину. Ночь была тёмной и влажной. Эразм рассказывал своим мягким наполненным голосом:
— Моё детство прошло в Роттердаме. Я рос без отца. Мы жили с матерью в небольшом, стареньком, низеньком доме.
Мор отозвался на это, стеснительно отвернувшись:
— Всё же у тебя была мать.
Внезапно встав перед ним, заглядывая в лицо, должно быть, плохо видя в темноте, потому что и сам он лишь смутно угадывал бледный овал с провалами глаз и жест изумления взволнованной тоже бледной руки, Эразм тронул его за плечо и приглушённо спросил:
— А что у тебя?
Его откровенность была так внезапна, что тотчас о ней пожалел, но уже через миг ощутил, что искренность сближает его с этим чрезвычайно изящным, слишком даже изысканным человеком, о котором до него доходили самые разнообразные толки, и обронил неохотно и кратко:
— Да, она умерла.
Нервно, слишком неровно шагая, покачиваясь на высоких изогнутых каблуках, часто касаясь его плеча в городской тесноте, то сжимая, то разжимая длинные пальцы, Эразм выговорил звучно и страстно:
— Тогда ты поймёшь, как я любил её, не имея отца! Я любил её, только её, единственную, любил беспредельно, любил исключительно, требовательно, порою капризно, я тиранил её! У матери тоже не было никого, только я, и она сносила эту любовь, как подарок судьбы, а подчас, возможно, и так, как несчастные сносят галеры. Она вся испуганная была, с потупленным взглядом, всё как будто ожидала беды, опасалась всего. Наденет мантилью, потупит голову, накрыв её капюшоном, смотрит в землю, жмётся к стене, сторонится, торопится закончить дела, и тотчас домой, как в нору. Соседи смеялись над ней. Мать с ними не зналась и меня от них берегла. Я был подвижный, хотелось бегать, камни бросать, а она нежно гладит по голове, жалобно говорит: «К ребяткам-то не ходи, задразнят тебя, у крылечка играй». Я играл у крылечка и жил от всех в стороне. Должно быть, за это мне всё и прощала, и капризы и озорство, избаловала, занежила, заласкала. Очень было мне с ней хорошо!
И завидовал Томас этой неиспытанной неге, и содрогался, вдруг угадав, какой невозвратимый болезненный след могла эта бездумная ласка оставить в но опытной детской душе, и жутко становилось ему от предчувствия, что впоследствии могло приключиться с этой без смысла, без умысла изнеженной детской душой, не принадлежи она блестяще одарённому человеку. Стало неловко от неожиданной откровенности, а Эразм стеснённо вздохнул, весь разом поник, и даже мягкий голос упал, так что нелегко было слова разбирать:
— Умерла она рано. Я остался один.
У него сердце дрожало от приступа сострадания, ещё оттого, что тоже рано остался без матери, с суровым отцом, который никогда его не ласкал, и негромко спросил, как будто это имело значение, спотыкаясь, неловко сбиваясь с ноги:
— Много ли было тебе?
Встряхиваясь, свирепо глядя перед собой, Эразм ответил с неожиданной злостью:
— Мне было двенадцать, и больше в жизни моей не было ничего! Я не знал, что мне делать, чем и как жить! Я, конечно, уже говорил и писал по-латыни, как римлянин, но за это уменье никто не взялся кормить. Жизнь устроена так, что все пути заказаны незаконному сыну. Мирские пути. Все мирские пути для вознесённых судьбой. Тому же, чей отец неизвестен, у кого в кошельке ни гроша, тот сброшен в самую грязь, тот на каждом шагу оплёван и оскорблён. Равны мы лишь перед Господом, и я тринадцати лет ушёл в монастырь. Ещё ничего не узнав, ещё не изведав по-настоящему сладости жизни.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу