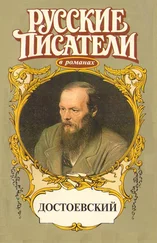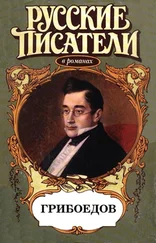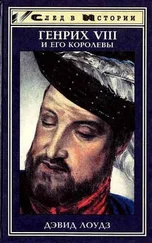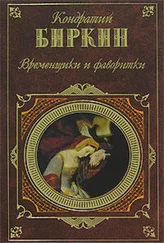С великой пользой употребил своё время мессер Джанноццо Манетти, и не было по всей Италии никого, кто бы убедительнее, чем он, мог обратиться к согражданам с глубокой по содержанию и совершенной по форме импровизацией.
Когда же короновался Папа Николай Пятый, он как говорили, сделался папой лишь потому, что искусней других кардиналов произнёс слово на погребении своего предшественника Папы Евгения, Флоренция выбрала из наидостойнейших граждан послом на римские торжества не кого иного, как мессера Джанноццо Манетти, и речь мессера Джанноццо Манетти слушали сто пятьдесят тысяч человек, и во всей римской курии только и говорили, что об этой восхитительной речи, и венецианская делегация тотчас снеслась с родным городом, чтобы в её состав был включён человек, способный в латинском красноречии не уступить мессеру Джанноццо Манетти.
И когда мессер прибыл в Венецию флорентийским послом, то говорил, обращаясь к дожу Франческо Фоскатти, более часа, и никто не шелохнулся при этом, и при выходе его из Палаццо дожей многие вслух толковали:
— Если бы наша Сеньория имела такого человека, стоило бы отдать за него одну из наших главных земель.
И это была чистая правда, ибо Манетти, несомненно, стоил и большего. Вся Италия знала историю, навеки прославившую его. В самом деле, это была замечательная история. К Флоренции подступал неистовый кондотьер Сиджизмондо Малатеста, и до смерти перепуганная Сеньория направила навстречу ему мессера. Долго ходили перед слабыми стенами свирепый солдат и целомудренный книжник, беседуя о новых латинских и греческих манускриптах, приобретённых Козимо Медичи Старшим. Представьте, милорды, эта беседа привела жестокого кондотьера в восторг до того, что у него пропала охота сражаться, и тиран поворотил войска свои вспять.
Завершая поучительное это повествование, профессор воскликнул с воодушевлением в голосе:
— Для народов и стран важнее всех тиранов и кондотьеров хотя бы один-единственный действительно просвещённый, действительно добродетельный, действительно мыслящий человек!
Долгие часы продолжались эти беседы, и всё-таки расставался с учителем неохотно, слушал его с жадным вниманием, которое росло с каждым днём, не давая покоя, однако не всё понимал, хотя был смышлён, не со всем соглашался. Избалованный старым кардиналом, пробовал спорить, ещё не успев освободиться от вкоренившихся представлений о том, что в жизни добро, а что зло, и бывал поражён, когда его порой остроумные, порой дерзкие возражения таяли без следа, как снежинки, едва соприкоснувшись с невероятно разносторонними и глубокими познаниями молодого учёного, в речах его то и дело непринуждённо являлись сильные, точные, неопровержимые доказательства, подкреплённые мыслями Платона и Плотина, Демокрита и Эпикура, Цицерона и Сенеки, и профессор произносил их так просто, с таким убеждением, точно они принадлежали ему самому и только что зародились в его беспрерывно мыслившей голове.
Перед этим бесконечным потоком учёности ощущал себя малолетним ребёнком и потому приходил к профессору чаще других, оставаясь с ним дольше и дольше, восхищенный глубиной его мысли, продолжая сомневаться упорно во всём, мечтая на него походить, как мечтал когда-то походить на Мортона, никогда не насыщаясь вполне слишком кратким общением с ним.
Зарывался в книги и манускрипты, подобно мессеру Манетти и десяткам других, чью жизнь, проведённую в храме философии и словесности, Гроцин то и дело ставил в пример. Едва овладев первой сотней греческих слов, едва усвоив первые аксиомы старинной грамматики, просиживал над Гомером и Аристотелем целые ночи. Всё греческое пленяло его. Целые страницы заучивал наизусть и часто клялся именем Геркулеса.
Но слишком недолго упивался греческой мудростью. Пролетели два года, как птицы. Студент ещё только прослушал предварительный курс, и отец призвал его в свой кабинет.
Со стеснённым сердцем входил всегда в эту сумрачную комнату, встречавшую холодным безмолвием и запахом сырости. Дневной свет с трудом проникал сквозь глубокие узкие окна, забранные мелкой решёткой. Кряжистые шкафы громоздились вдоль серых, давно не обновлявшихся стен. В шкафах молча темнели толстые книги, прочно затянутые в кожаный переплёт, точно рыцари в панцирь, сбросить который было не так-то легко. Несколько стульев стояли тут и там в беспорядке. Для короткого отдыха был предназначен тесный и жёсткий деревянный диван.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу