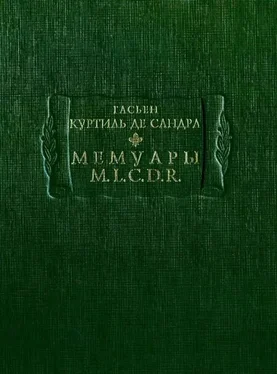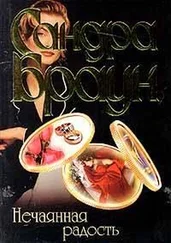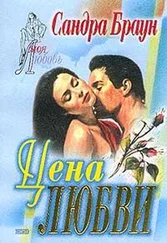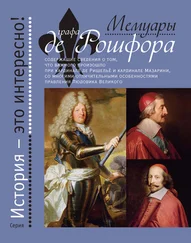С тех пор не было человека смиреннее меня. Я проникся такой любовью к Господу, что более не мог оставаться равнодушным к религии. Против прежнего обыкновения, я приучился чаще посещать церковь — одним словом, стал задумываться о спасении души. Поэтому, когда разнесся слух о некоем капуцине Марке из Авиано, якобы творившем чудеса, мне очень захотелось увидеться с ним. Я отправился из Парижа во Фландрию, где, как рассказывали, он находился. Там я узнал, что он уехал в Германию, и, последовав за ним, застал его в Гелдерне {344} . Не стоило и спрашивать, где искать его: дороги были полны людьми, подобно мне шедшими отовсюду, чтобы взглянуть на него. Впрочем, хотя все наперебой клялись мне, будто бы он исцеляет больных и даже калек, я тщетно старался в это поверить, ибо так и не стал тому свидетелем; единственное, в чем мне пришлось убедиться, — что молва о нем разнеслась по всем сопредельным областям и, куда бы он ни приезжал, к нему стекалось не менее сотни тысяч страждущих душ. В городах всюду строили подмостки и сдавали зевакам окна домов, будто накануне прибытия какого-нибудь прославленного государя, — а все для того лишь, чтобы посмотреть, как он пройдет по улице. Последовав примеру остальных, я вскоре сильно пожалел о своем рвении. Подмостки, на которые я взобрался, рухнули, я упал с высоты в семь или восемь футов и сломал руку. Со многими стряслась та же беда или, во всяком случае, подобная моей, — но то, что я имел немалое число товарищей по несчастью, отнюдь меня не утешило, ибо я находился в стране, где нет большей редкости, чем хороший хирург. Действительно, когда я попросил призвать лучшего из них, явился один, сведущий в своем ремесле не более, чем у нас во Франции коновалы: он мучил меня целых три недели и пользовал так дурно, что лечение пришлось повторять заново. Я тысячу раз пожалел о моем благочестивом порыве и не раз помянул недобрым словом тех, кто расхваливал мне монаха из Авиано, однако это ничуть не помогло мне исцелиться, и я решил либо вернуться со своей больной рукой в Париж, либо отправиться, как мне посоветовали, к одному палачу в Рурмонде {345} . Этот человек так же легко мог сращивать кости, как и крушить; его слава была велика, и несколько дворян, пришедших справиться о моем здоровье, подтвердили, что он — надежда всех, кого плохо лечили. Мне не хотелось доверяться палачу, но, рассудив, что сильно рискую, решив ехать в Париж нездоровым, да к тому же измученный приступами боли, я через силу согласился последовать их совету. Войдя в его дом, я объяснил, зачем явился, и спросил, может ли он мне помочь; хозяин с видом настоящего палача ответил, что ему приходилось исцелять и более тяжелые увечья. Он стал ощупывать мою руку и вдруг причинил мне сильную боль; я же, питая к нему отвращение, скорчил такую гримасу, которая не понравилась бы ему, знай он меня лучше. Потом он сказал в таких ученых выражениях, что мне их уже не вспомнить: тот, кто прежде брался лечить меня, — полный невежда, — и поинтересовался, могу ли я перед операцией найти кого-нибудь, кто бы меня держал. Нет, ответил я, но в этом нет необходимости: как бы больно мне ни было, я разве что изменюсь в лице. При этих словах он покачал головой, словно не веря, и возразил: он не так самонадеян, чтобы оперировать в одиночку, и раз уж я сам не позаботился привести кого-либо, то нужно дождаться его помощников, — те якобы ушли за два лье обделать одно небольшое дельце. Этим «небольшим дельцем» оказалось колесование человека, убившего свою жену; возвратившись, они схватили меня теми же окровавленными руками, которыми казнили преступника. Тогда хозяин взял мою больную и неправильно сросшуюся руку и в тот же миг сломал ее, не прибегая ни к каким иным инструментам, кроме собственных рук. Боль и в самом деле оказалась невыносимой, и он был прав, настаивая, чтобы меня держали; но я не имел причин раскаиваться, что прибег к его помощи: он исцелил меня за несколько дней, и с той поры я пользуюсь этой рукой так же свободно, словно она никогда не была искалечена.
По прошествии этих двух-трех лет война окончилась мирным договором, подписанным в Нимвегене {346} . Он был во многом столь же выигрышным для Короля, как и его военные кампании: государь нашел средство разобщить врагов, и, вместо того чтобы стремиться к союзу, как прежде, каждый из них теперь думал лишь о заключении сепаратного мира. Для них это стало роковой ошибкой, никогда дотоле не случавшейся, но они скоро это поняли. Когда Король увидел, что они разъединены, он, как великий политик, не преминул воспользоваться этим благоприятным обстоятельством, и так как во время войны он понял, что его королевство никогда не будет в покое, пока Люксембург остается в руках испанцев {347} , он потребовал его в возмещение за Аалст {348} , который по-прежнему удерживал. Его притязания, вопреки утверждению многих, отнюдь не были пустым звуком: он завладел этим городом во время войны, и коль скоро мирный договор предусматривал сохранение за ним всех завоеваний, за исключением особо оговоренных, то поэтому Король и настаивал, что сей город, среди таковых не упомянутый, бесспорно должен принадлежать ему. Вопрос сводился к тому, чтобы он вывел оттуда гарнизон, испанцы же, со своей стороны, требовали, чтобы город был возвращен им немедленно, как только будет освобожден, — однако Король отвечал, что препоручил защиту Аалста его жителям, — из Нимвегенского договора следовало, что именно они оставались его хозяевами. Это затруднение могло преодолеть либо оружие, либо вмешательство английского короля — посредника на переговорах и гаранта мира. Но так как этот государь не вызывал у испанцев доверия, они предпочли назначить уполномоченных, дабы прийти к взаимовыгодному компромиссу. Король, со своей стороны, поступил так же, избрав местом новой ассамблеи город Куртре {349} , — а когда из переговоров, кроме перепалки, ничего не вышло, осадил Люксембург {350} . Все ожидали, что после этой враждебной выходки война разгорится еще сильнее, и соседние государи были этим так встревожены, что отрядили послов к обеим враждующим сторонам, а лучше сказать, поручили своим прежним представителям убедить соперников: примирение гораздо выгоднее для обоих. Но никакие усилия успеха не достигли. Король желал обладать либо Аалстом, либо Люксембургом, испанцы же не могли уступить ни того, ни другого: отказываясь от Люксембурга, они закрывали себе путь в Германию, с которой, совсем обессилев, связывали свои надежды, — а отдав Аалст, теряли самый выгодный источник фландрских доходов, ибо этот бальяж {351} приносил свыше полутора миллионов в год. К тому же Аалст находился на полпути между Гентом и Брюсселем, и его уступка обрекала их печальной участи, точнее сказать — угрожала захватом и им. Король, куда больше желавший получить Люксембург, нежели Аалст, первым заявил испанцам, что уступить его — это и есть наилучший выход, но они не поверили его словам, и ему так и не удалось их убедить. Между тем Люксембург оставался в осаде, и никакими силами нельзя было ее снять. Король же Испании, понимая, что уже не сможет противостоять столь сильному противнику, послал приказ своим войскам избегать стычек, и когда его солдаты встречались с нашими, то, даже имея при себе оружие, дрались палками и кулаками. В дальнейшем, видимо, будет трудно поверить таким вещам, но поскольку не сыщется историка, который о них не упомянет, то не усомнятся даже самые недоверчивые. Если я и говорю обо всем этом, то не потому, что там был, и не из страсти порассуждать о делах, о которых и без меня предостаточно написано; мне ничего не стоило бы умолчать о них, не коснись они моего племянника, — недавно я уже рассказывал о нем: с ним произошла неприятная история, которая наверняка погубила бы его, если бы не помощь добрых друзей.
Читать дальше