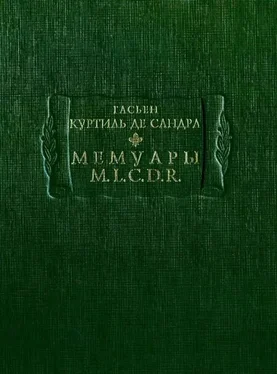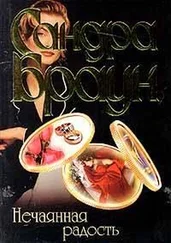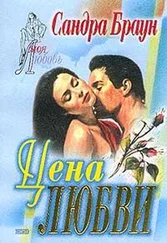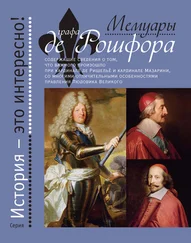Поскольку со смертью господина де Тюренна в моих услугах уже не нуждались, я решил оставить службу — многие сослуживцы последовали моему примеру, и мы образовали группу, вполне способную обороняться в случае нападения. Мы были окружены врагами, кроме того, немцы перешли Рейн следом за нами и предпринимали разные вылазки. С одним из их отрядов мы вступили в бой, и нам посчастливилось разбить его наголову — и даже взять в плен неприятельского офицера. При нем нашли паспорт, который принесли мне, так как именно я был выбран командовать нашей группой, пока мы не окажемся в безопасности. Это показалось мне странным — среди нас, за исключением тех, кто служил в гарнизоне, никто не имел при себе документов. Но он ответил, что его отряд не принадлежит к основным силам, — были некоторые дополнительные подразделения, вступившие в Эльзас и занявшие разрозненные позиции в здешних окрестностях. Пока он говорил, я заметил, что по его колету струится кровь, и промолвил, что он, должно быть, ранен. Он отвечал, что нет, и, кажется, вправду думал, будто невредим, но, когда увидел кровь, внезапно побледнел и, что было еще ужаснее, через мгновение испустил дух — то ли из-за раны, оказавшейся слишком серьезной, то ли, скорее всего, от страха. И впрямь, страх способен творить и не такие вещи; господин маркиз д’Юксель, командир Полка Дофина, рассказал мне несколькими днями позже: в битве при Касселе {336} один из его солдат упал мертвым, когда увидел, что придется сдаться. Но нам-то в любом случае повезло с этим приключением — иначе я со всей группой попал бы в плен. Не успели мы проехать и лье, как встретили еще один вражеский отряд, насчитывавший по меньшей мере триста человек. Я не ожидал такого, и люди, которых я вел, не успели спастись бегством. Неприятели обратились ко мне, чтобы узнать, кто мы. Господу было угодно, чтобы я не утратил хладнокровия: я сказал, что мы из того гарнизона, к которому принадлежал недавно погибший офицер, а чтобы те поверили, показал его паспорт — это окончательно убедило их, и они позволили нам ехать дальше. Сказать по совести, выдать этот обман за правду помог преимущественно мой немецкий язык, на котором я говорю почти так же хорошо, как и на своем родном {337} . Счастливо выпутавшись из этой переделки, мы продолжали путь и прибыли во Францию, где все считали, будто после гибели господина Тюренна война будет проиграна. Сам Король опасался непоправимых последствий, поэтому приказал господину принцу Конде, находившемуся во Фландрии, принять командование германской армией. Это не помешало немцам осадить Хагенау, однако, когда принц Конде подошел для борьбы с ними, они сняли блокаду. То же самое произошло и перед Цаберном, который они целых три дня забрасывали бомбами из нескольких орудий, — и Король, увидев, что враги потерпели неудачу даже в столь незначительном предприятии, немного успокоился.
Когда стали известны эти хорошие новости, я уже вернулся ко двору — и ничему так не удивился, как рассказу о том, что евреи, жившие в этих городах, изобрели способ тушить фитили у готовых вот-вот разорваться бомб: они набрасывали на них свежесодранные бычьи шкуры, и, преграждая таким образом доступ воздуха к фитилю, заставляли огонь гаснуть. Как бы пригодились евреи правителям Генуи во время недавних событий — тогда бы их город, прекраснейший в Европе, не был низведен до того плачевного состояния, в каком пребывает ныне {338} .
Сцена гибели господина де Тюренна все еще стояла у меня перед глазами, и если бы Богу угодно было наделить меня склонностью к уединению, думаю, мне было бы этого достаточно, чтобы покинуть свет. Однако всегда питая неприязнь к монастырской жизни, я не смог заставить себя последовать примеру этого великого человека, который, будь он жив, наверняка исполнил бы свое желание и удалился к отцам ораторианцам {339} . Я говорю это со смущением: наверное, странно, что человек, которому перевалило за семьдесят, все еще настолько любит мирские радости, что не хочет от них отказаться. Но, по правде — по-моему, я уже упоминал об этом, — мне не давали моих лет, и хотя я сторонился женщин, но все-таки мог предоставить повод для ревности. Однажды некий пикардийский дворянин, имени которого я не назову, сыграл со своей женой шутку, которая, будь она раскрыта, навлекла бы на него неприятности. Совсем свихнувшись, он раздобыл одеяние монахов-францисканцев, поскольку знал, что обычно она исповедуется именно у них, и велел слуге, чтобы, когда супруга пошлет за своим прежним духовником, передать, будто бы тот захворал и отправит вместо себя другого брата. Муж меж тем надел рясу, вошел в комнату жены, где из-за темноты не боялся быть узнанным, и начал разыгрывать странный спектакль. Мнимый духовник так настойчиво допытывался, не было ли у нее связи со мной, что она не могла понять: почему, уже получив ответ, он в сотый раз задает тот же вопрос. Он пытался прояснить и другие имевшиеся у него подозрения — но, если верить тому, что она рассказала мне наутро, так и не смог выведать никаких ее тайн, кроме всем известных — оказывается, жена узнала его по голосу и быстро все поняла. Она была достаточно хитра, чтобы себя не выдать, — так оба совершили проступки, наиболее осуждаемые христианским благочестием: один стремился доказать женину неверность, другая не позволила мужу излечиться от ревности, подтачивавшей его разум.
Читать дальше