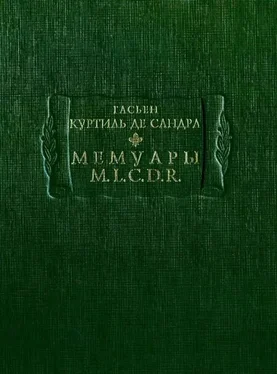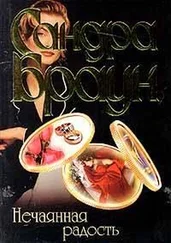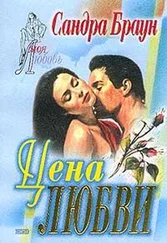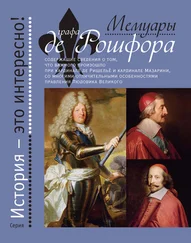Все произнесенное дотоле ничуть не тревожило ее, пока я не привел этот последний довод. Она осведомилась, кто подбил меня на такие речи, и, поняв, что я не хочу отвечать, принялась всячески улещивать и просить ничего от нее не утаивать. Однако мне не хотелось больше касаться этой темы, что навело герцогиню на мысль, будто я все измыслил. Я ответил: пусть думает как пожелает, время покажет — хотя как бы не было уже поздно, — что я говорил правду, ничего не прибавляя и ни о чем не умалчивая. Не промолвив более ни слова, я удалился, а на другой день, проходя мимо ее дома, повстречал господина Теодора, того самого конюшего. Думая, что имеет дело с ничтожеством, подобным ему самому, он сказал: я-де немало позабавил его хозяйку, явившись накануне болтать глупости. Не успел он закончить эту фразу, как сполна получил за нее: я отвесил ему два или три удара тростью по спине, до того напугав, что он не подумал даже вынуть шпагу из ножен. Тем не менее, он не утихомирился и хотел подстроить так, чтобы через его наветы меня призвали к суду маршалы Франции, уверенный, будто суровые королевские ордонансы обеспечат мне несколько лет тюрьмы. Но из-за своей наглости, а также того, что человек его звания не имел права требовать меня к маршальскому суду {358} , он произвел неприятное впечатление на маршала де Вильруа, у которого происходило заседание, и смог добиться лишь обычного правосудия. Перед процессом я заручился советами одного опытного сутяжника, и когда мой недруг явился в суд, то увидел, что его упредил и что не он может повредить мне, но от меня зависит засадить его в тюрьму — во исполнение вердикта, вынесенного против него. Мадам де Витри захотела отплатить мне за это и, не смея рассказать моим друзьям всю правду до конца, заявила лишь, что я был нелюбезен с нею и избил одного из ее слуг, так что она не простит меня до конца жизни. Я попросил объяснить ей, что конюший вынудил меня к побоям своими дерзкими словами; и хотя персоны эдакого разбору конечно же неспособны оскорбить порядочного человека, да ведь и мы не всегда достойно владеем собою; прежде чем набрасываться на него, мне следовало подумать, а я пренебрег этим, — но прошу заметить: он тоже был при шпаге, а значит, и я мог взяться за свою, отвечая на его наглость. Другая на месте герцогини, вероятно, нашла бы мои доводы убедительными, но господин Теодор обладал большим даром убеждения, чем я, и она продолжала выказывать мне свою ярость. Я не обращал внимания и не хотел поступать по-иному, имея по меньшей мере то преимущество, что многие были на моей стороне. Осмелюсь сказать, что в ее поведении было больше упрямства, чем разума, и она довольно ясно обнаружила это, когда продала-таки свое поместье господину де Буафрану, управляющему делами господина герцога Орлеанского, вполовину дешевле, чем оно стоило. Это восстановило против нее всю родню, а еще сильнее шум поднялся, когда герцогиня, дабы утешить господина Теодора в его обидах, отдала большую часть денег ему. Как бы то ни было, господин де Ла Тур, более прочих заинтересованный в делах наследства, решил избавиться от злополучного приживала, а посему прибегнул к угрозам, вынуждая его уйти. Это желание осуществилось: видя, что все на свете ополчились на него, Теодор сбежал, не попрощавшись с герцогиней, а та, если верить «Скандальной хронике», так сокрушалась, что умерла от огорчения. В самом деле, она не пережила разлуки с ним. Для господина де Ла Тура было бы лучше, если бы это случилось четырьмя-пятью годами раньше, тогда бы его теща не успела растратить основное состояние и не испортила бы свою репутацию, дотоле столь безукоризненную, что утверждали, будто достойней ее дамы нет.
Тем временем осада Люксембурга продолжалась, и хотя возвращение графа Вальсассины приободрило осажденных, однако привезенных им денег не могло хватить надолго — вскоре гарнизон опять ждала прежняя нужда. Это заставляло губернатора действовать очень осторожно, но наконец он совершил ошибку, которая, сражайся он за Францию или потеряй французское губернаторство, стоила бы ему головы. При приближении наших войск он выставил на крепостном валу скрипачей, словно говоря: самое высшее наслаждение для него на войне — это выказать храбрость; затем в городе начались балы и празднества. Однако он не учел, что имеет дело с противником, танцующим под другую музыку: в последней кампании мы проявили довольно отваги, чтобы не сносить подобных насмешек. Позволяя себе немного отвлечься, скажу, что, если бы его атаковали в открытом поле, он, возможно, разделил бы участь принца Конде при осаде Лериды {359} . Тот, упоенный своими замечательными победами во Фландрии, забыл о судьбе графа д’Аркура, битого в предшествующем году {360} , и, полагая, будто и в Каталонии удача ему не изменит, тоже заставил скрипачей играть во главе своего войска перед неприятельскими позициями. Не удовольствовавшись этим, он велел передать испанскому губернатору, что такие серенады теперь будут звучать часто. Испанец же заявил, что постарается ответить тем же, но с извинениями просит подождать до утра — дабы настроить скрипки, которые он с радостью даст послушать, едва музыка будет готова. Музыкой же оказался гром пушек, которые своим огнем прикрывали решительную вылазку осажденных. Принц Конде отчаянно оборонялся и даже потеснил испанцев до городских стен, но, не получив поддержки, на которую рассчитывал, был вынужден отступить, потеряв семьсот или восемьсот человек. Но, сказать прямо, — да позволят мне судить великого полководца, — к чему вся эта бравада или, точнее говоря, пустое фанфаронство? Разве нет других способов отличиться, и неужели принцу совсем не приходило в голову, что он может потерпеть поражение?
Читать дальше