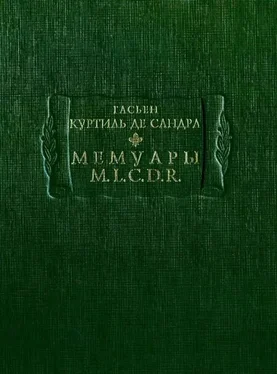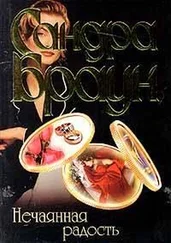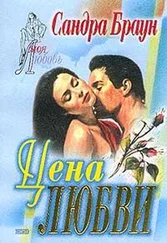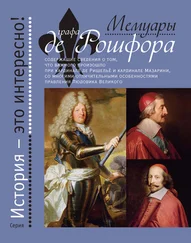— Так все и было, монсеньор, — промолвил я, — но это пустяки. Надеюсь при случае совершить много других дел, служа Королю и Вашему Преосвященству.
— Пусть так и будет, — сказал он и добавил, повернувшись к окружавшим его вельможам: — Но это всего лишь дитя. Жаль в таком возрасте подвергать его опасностям — это чистое насилие над природой.
Его рассуждения внушили мне страх, что он ничего не захочет для меня сделать. Поэтому я продолжил:
— Монсеньор, я гораздо сильнее, чем вы думаете! Ваше Преосвященство можете испытать меня, дав какое-нибудь поручение.
Он не ответил, но, тихонько обратившись к своему капитану гвардии, велел покормить меня и подробно выяснить, кто я такой. После этого он удалился в свой кабинет, что меня столь же удивило, сколь и расстроило: я-то надеялся, что стоит мне предстать перед ним, как мое благополучие будет обеспечено.
Капитан гвардии, не мешкая, выполнил все приказы и доложил кардиналу, что я из дворянского рода; мне он велел вновь явиться в его кабинет после обеда. Он сказал, что так мною доволен, что решил принять меня на службу, и ежели я буду разумен и предан ему, то у меня не будет причин раскаиваться. В благодарность я отвесил глубокий поклон и уже подставил было руки для тех милостей, которыми меня, как мне казалось, вот-вот осыплют, — но был сильно разочарован, когда все мои чаяния ограничились лишь одеянием пажа, каковое он распорядился мне выдать. Я еще не так хорошо владел собой, чтобы скрыть разочарование, и мое неудовольствие не осталось незамеченным.
— Пусть это тебя не тревожит, — произнес он так милостиво, что я позабыл обо всех огорчениях. — Дело лишь в том, что покуда я хочу поберечь тебя; но придет время, когда ты, быть может, будешь занят с утра до ночи.
Столь теплые речи заставили мое лицо просветлеть; не преминув показать ему эту перемену, я снова глубоко поклонился. Вышедши за двери, я стал дожидаться, когда получу форменную одежду или, по крайней мере, когда с меня придут снять мерку, но начальник пажей сказал, чтобы я написал отцу, — пусть-де вышлет мне четыреста экю на текущие расходы, на белье и на ливрею, а без этого об экипировке и думать нечего.
Моя досада была ужасна. Чтобы не быть обязанным отцу, я решил даже продать своих лошадей, но это принесло бы не больше пятидесяти пистолей, то есть лишь половину нужной суммы. На родственников рассчитывать не приходилось: они принимали так мало участия в моей судьбе, что к ним нечего было и обращаться. Ночью я не мог заснуть, размышляя, как мне выкрутиться из этого затруднения, и решил обратиться к господину де Марийяку — он был единственным человеком, у которого я мог попросить помощи. Но, задремав уже под утро, я проснулся слишком поздно и вынужден был перенести дела на послеобеденное время; однако службой пренебрегать было нельзя, и я предстал перед господином кардиналом, который, едва завидев меня, спросил, почему я еще не переодет.
— Потому, монсеньор, — ответил я, — что прежде я должен раздобыть денег: наш начальник сказал, что все будет сделано, как только я принесу четыреста экю.
— Что еще за поборы! — тотчас произнес он при всех, пожав плечами, затем продолжал, повернувшись ко мне: — Передайте ему от моего имени, что если он возьмет у вас хотя бы одно су, то не проведет больше на моей службе и четверти часа. Передайте ему также, что, если дело не будет решено к завтрашнему утру, пусть ищет другого господина.
Легко понять, с каким удовольствием я выслушал все это и, почувствовав его покровительство, не преминул уязвить нашего начальника, пересказав ему слова кардинала слово в слово. Тот исполнил все в точности, а я на оставшиеся у меня десять или двенадцать пистолей приобрел себе те предметы одежды, которых мне не дали; впоследствии господин кардинал не только вернул мне деньги за них, но и возместил эту сумму втройне.
Оставаясь лишь пажом, я все-таки был счастлив. Для Его Преосвященства не было никого ближе, и он хотел, чтобы именно я занимался всем. Чтобы доказать свою признательность, я неизменно находился позади его кресла, готовый выполнить любой его приказ: за столом всегда подавал ему напитки, — он же настаивал, чтобы это делал именно я, и называл меня по имени — хотя и другие тоже заискивали такой чести и даже тяготились ревностью. Когда он навещал госпожу д’Эгийон {29} , происходило то же самое: я был единственным, кто сопровождал его, мне предписывалось оставаться в передней, куда никто никогда не входил, и если он желал переговорить с кем-нибудь, то вызывал этих господ также именно я, а они поднимались к нему по потайной лестнице и по ней же уходили, чтобы никто их не увидел.
Читать дальше