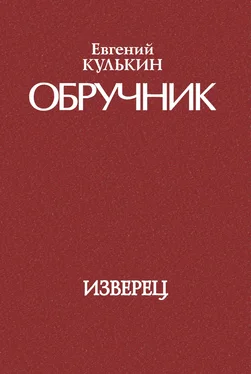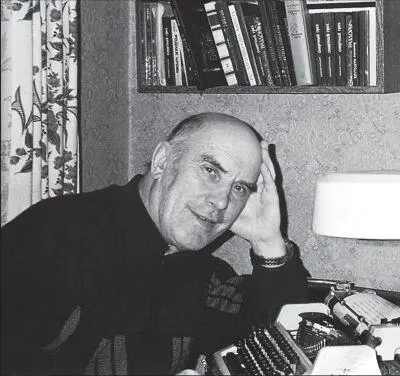Евгений Александрович Кулькин
Обручник
Книга 1
Изверец
Тот, кто знает людей, благоразумен.
Знающий себя – просвещен.
Побеждающий людей – силен.
Побеждающий самого себя – могущественен.
Лао-Цзы, конец IV – начало V в. до н. э.
Небо родит простолюдинов не для правителя, оно возродит на престол правителя для простолюдинов.
Сюнь-Цзы, ок. 313–238 гг. до н. э.
Предоставить людям средства для существования – это называется милосердием.
Мэн-Цзы, ок. 372–289 гг. до н. э.
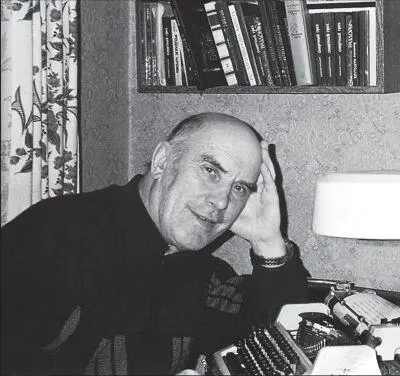
Это были не сон и не бред. Это было начало романа, в какой я ввергаюсь. Высочайшее проявление непонятности, в которой побочными чувствами живут некие откровения и открытия, объяснение которым можно получить только у Бога.
Одновременно предо мной простирались четыре времени года. Где-то левее и чуть выше того места, откуда я на все это взирал, было некое затишное укромье, споро просекаемое блескучими снежинками. А правее от этого укромья, словно скопировав все то, что делалось в затишном месте, только вися неподвижно, яблоневый цвет царил на ветвях, как бы передразнивая те же снежинки, давая им понять, что та красота совершеннее, у которой есть возможность обратиться в конечном счете в плоды.
Лето млело у меня под левым локтем. Зной припекал левую щеку. Зато справа – была осень. И именно она как бы говорила, что еще мгновенье и круг, которым является все то, что находится передо мной, повернется и декорации поменяются местами.
А когда я вздохнул от понятности того, что происходит, то круг действительно повернулся, только предо мной возникли не те самые времена года, которые я только что лицезрел, а настоящий полнокровный оркестр. И дирижер – некто в своем фраке очень похожий на стрижа, стал, как это делают факиры, глотать свою палочку и, комоло оставшись без нее, начал водить своим, удивительно похожим на клюв, носом.
– Главным в оркестре, – прокартавил он, – является тот инструмент, которому доверено на данный момент солировать.
И за его спиной вдруг задвошал барабан. Словно своей блямбой бил по затылку всем, кто владел другими инструментами. В обиходном языке это называется «ставить на место».
И вот когда все были поставлены на место, тогда и ударилась в плач скрипка.
Кажется, она оплакивала беспризорное девичество всех на свете брошенок и бесприданниц.
Ежели говорить о человеческом существе, то барабан как бы отбил ему паморки, а скрипка во всяком случае пыталась вынуть душу.
Потом пошли другие инструменты, и дирижер всякий раз объяснял, что являет собой тот или иной поворот мелодии и как это надо воспринимать в пору, когда останешься один на один с оркестром, очень напоминающим палитру нашей жизни.
И голос, как бы существующий вне времени и пространства, сказал:
– Ты собираешься писать о том, что весь твой век ело твою душу? Ты знаешь действующих лиц и исполнителей мифа, который зовется действительностью? Но тебе неведомо, как они поведут себя, когда ты их выведешь на сцену. Ведь именно там всяк ведет себя чаще не так, как предписано пьесой и надолдонено режиссером.
Ты можешь оказаться глупее того, что затеял.
Потому мой совет таков: не противься тому, что делается, и ничем не управляй.
Пусть происходит все так, как должно или, наоборот, не должно случиться. Ведь оно родилось в твоей душе в виде бреда и исповедальности.
Моли Бога, чтобы он помог тебе в заблуждениях своих не дойти до ереси и не ухнуть в преисподнюю раньше, чем сей труд станет жечь сознание тех, кому адресован.
И в это время круг опять повернулся и я увидел толпу.
Она – кипела.
– Долой! – кричал один, с зайдами в уголках губ, с изъеденным оспой лицом.
– Говори! – вопил другой, сотрясая кулаками, в одном из которых была зажата фуражка.
И я понял, что это герои моего будущего романа. И – ногами – как бы помог кругу продолжить свое вращение, чтобы, наконец, увидеть читателей.
И круг повернулся.
И я – ахнул.
Скорее, все же охнул.
А может, и то и другое сразу, неведомо только, в какой последовательности. Потому как передо мной возникло возвышение, рядом с которым стояла виселица, возле какой расхаживал детина с обветренным, загорелым в полоску лицом.
А у одного очкарика, вернее, пенсиюки, ну, словом того, кто был в пенсне и чем-то смахивал на Свердлова, в руках трепетала на ветру бумага, поперек которой крупно было написано: «Приговор».
Читать дальше