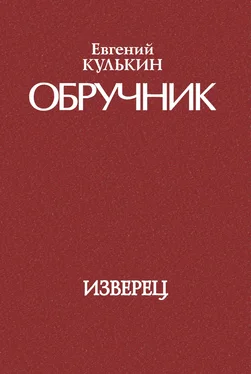И тут кто-то, кажется, Молотов, спросил:
– А правильно в свое время расстреляли царскую семью?
Сталин – скрипуче, – словно уже стал памятником и переживал окостенелость сочленений, повернулся и ответил:
– Ежели бы на сей день царь был живой, мы бы были уже мертвыми.
И некий холодок, вернее, сквозняк, прошел по кабинету. Словно где-то рядом разверзлась могила и, совсем по-бегемотьи, зевнула. И именно в эту пору я проснулся, неожиданно открыв для себя, что не помню, кто и – главное – когда расправился с царской семьей.
Я долго тогда жил под впечатлением того сна. И всякая оса (а дело было в арбузное время) наводила меня на новые и новые воспоминания о нем.
На службе я познакомился с двумя горийцами – Владимиром Хубулашвили и Автондилом Таганидзе. И как-то так случилось, что о Сталине они старались не рассказывать ничего того, что выходило за рамки уже известного. А однажды неожиданно заспорили. И предметом их несогласки был вопрос, конечно же, не влияющий на мировую политику. Владимир говорил, что Сталин приезжал погостить к матери в Гори, а Автондил из бушлата ломился, утверждая, что Иосиф Виссарионович и глаз туда не казал.
И вот этот спор как бы распаял их воспоминания о семье Джугашвили. И они стали пичкать такими подробностями, что у меня, сказать по-казачьи, загривок задымился. Причем, оставшись отдельно один от другого, Хубулашвили и Таганидзе утверждали, что чуть ли не являются родственниками Сталину.
Только много позже я узнаю, что они к Гори не имели ни малейшего касательства. Просто в ту пору каждый грузин пытался представить себя земляком великого человека.
И хотя мои сослуживцы, как мне казалось, наговорили много разной ерунды, именно их «воспоминания» побудили меня в свое время обострить себя для разработки этой темы. Так, на всякий случай, еще без мысли, что когда-то замахнусь на дерзость написать о легенде моего поколения.
В ту пору было модным при каждой воинской части, в том числе и корабле, иметь так называемое подсобное хозяйство. Было такое и у нас где-то возле Качи. И там я услышал байку, что туда, то есть в летное училище, приезжал товарищ Сталин и когда увидел там особую комнату, оборудованную для его сына Василия, то страшно возмутился и приказал поместить его в обыкновенные казарменные условия.
И вот, видимо, под впечатлением этой байки, я и увидел во сне Сталина.
На этот раз он шел среди виноградника, попыхивая трубкой, и читал стихи.
Я не помню тех строк, что донеслись до моего уха. Только видел, как в знак какого-то особого силлабизма он подкивыивал себе, так и не возгоревшейся для раскурева, трубкой.
Я крался за ним следом и боялся, что он, обернувшись, увидит меня и, как мне казалось, заставит читать свои стихи.
Но он не обернулся.
Больше того, он как бы превратился в виноградный куст, который особняком стоял посередине деляны и в его недрах попискивала какая-то птичка.
Тот сон мне помнился дольше других хотя бы потому, что – чуть позже – я узнал, что в юности товарищ Сталин в самом деле писал стихи и некоторые из них даже достигли прилюдной участи, то есть были напечатаны.
Я не знаю, почему этот обладатель тихого голоса попросил именно меня остаться после занятий городского литобъединения. Почему я безымянно обошелся с незнакомцем? Да потому что, не кокетничая, действительно не знал, кто это такой. Хотя все вокруг на него заискивающе смотрели и явно рассчитывали на некое внимание с его стороны.
– Вы из самого Сталинграда? – спросил он меня, и вот это – нашенское – слово «самого», точнее сказать, «самово», как бы разом приблизило его ко мне. Тем более он далее сказал:
– Наверно, думали, что от развалин и руин у нас взором отдохнете. А тут то же, что и у вас.
Так состоялось мое знакомство с писателем Петром Андреевичем Павленко.
И вот тут-то я узнал о Сталине такое, что долго носил спазм в горле. Оказалось, Иосиф Виссарионович не просто был книгочей, он читал верстку еще неизданных книг.
Именно Петр Андреевич рассказал мне о том, как благодаря своему роману «Счастье» обрел его в буквальном смысле, став самим вхожим к Сталину писателем. И это именно ему вождь поручил написать сценарии к фильмам «Клятва» и «Падение Берлина».
Это был еще один шаг к осмыслению противоречивой личности Сталина.
Как я думал противоречивой, а на самом деле все, что он ни делал и ни совершал, умещалось в рамки необходимости, диктовавшей свои неумолимые условия.
Читать дальше