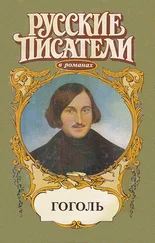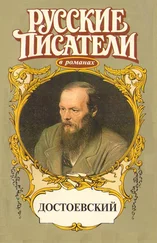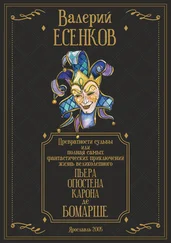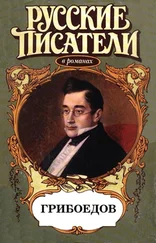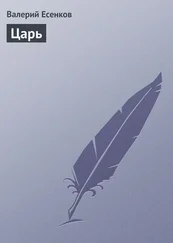«И непонятною тоскою уже загорелась земля, черствее и черствее становится жизнь, все мельчает и мелеет, и возрастает только в виду всех исполинский образ скуки, достигая с каждым днем неимовернейшего роста. Все глухо, могилы всюду. Боже! Пусто и страшно становится в Твоем мире…»
Однако ж братская любовь не оскудевала в душе, и с этой братской любовью он попробовал прожить в пустоте. Лишь все чаще и тяжелее молчал. Лишь чаще день ото дня отвечал невпопад. Лишь делал со старанием вид, что не расслышал ничтожных и глупых вопросов, обращенных к нему. Лишь с упрямством изворотливо ускользал от прямого ответа, когда ответ свое заведомой странностью лишний раз дал бы им повод считать его поврежденным в уме. Лишь упрямей становился день ото дня.
Так сумел он выдержать и пустоту, ибо предстояло окончить «Мертвые души», сперва второй том, а там, с духом собравшись, и третий, не рассуждая понапрасну о том, что же станется с ним, когда оба тома будут готовы: он должен был либо погибнуть в непосильных трудах, либо все написать, как задумал, таким образом, его жизнь, его смерть таилась в этих томах.
Однако еще кое-как возможно было прожить в пустоте, а как было в пустоте предаваться непосильным, истощающим душу трудам?
Нет, не обида, не оскорбления закрывали прямые пути прихотливому его вдохновенью.
Для того, чтобы образы явились живыми, для того, чтобы вставали во плоти с листа, для того, чтобы уже не предавался сомненьям никто, что все эти образы целиком и живьем выхвачены прямо из разгулявшейся, завихрившейся бестолковщины нашей, необходимо было разузнать и растолковать себе самому, чего же хотят от него им же самим так дерзко задетые, так глубоко оскорбленные русские люди, так горячо взволновавшиеся его соотечественники.
Что обида – от обиды он отмахнулся, даже Белинскому со спокойным достоинством ответил на разгоряченное, гневное, чуть не убийственное письмо, из чувства братской любви уверенный в том, что всякий вправе мыслить по-своему и по-своему понимать, чего требовал от пишущей братии век.
Его непобедимо тянуло проникнуть в таинственный смысл обрушенных на него обвинений. Он обогатиться ими мечтал. Обогатившись, надеялся сделаться лучше, умней, сильней, зная пословицу, что за битого двух небитых дают, а его-то били и какой уже раз, он давно уже сбился со счета.
Однако, все обвинения оставались ему непонятны, точно перед ним воздвиглась замшелая старинная дверь с позабытым замком, ключ от которого нарочно забросили в омут.
Что-то зловещее, жуткое, решительно невозможное быть он угадывал в том, что решился всенародно посоветовать каждому на своем месте, на какое ни определила судьба, сделать, вечно помня о Боге, доброе дело, а они, заслыша такого рода советы, идущие от чистого сердца, от веры, от братской любви, всполошились и не шутя вопрошали друг друга о том, уж не сошел ли он в самом деле с ума, до того все его соотечественники далеко оказались от братской любви, и душа, сколько ни бился над ней, принять не могла, чтобы это было именно так, не имея достаточной силы поверить, чтобы на месте братской любви уже заклубилась между всеми и всеми вражда.
Он жалобно охнул, скрипнул зубами. Ему нечем стало дышать. В себе самом обнаруживал он такое ничтожество, какого еще не носила земля, если такие простые, такие ясные истины он не сумел как должно сказать. Руки его опустились. Да, разумеется, необходимо сделаться лучше, чем есть, однако же как, какие силы еще призвать на помощь себе? Непонимание его современников, оскорбления и обиды с их стороны неустанно толкали вперед, но он не двигался с места и под их обдирающим душу бичом, и ужасно хотелось властно крикнуть Этим раздирающим душу воспоминаниям, чтобы шли они прочь от него, как кричат на бездомых собак, собравшихся в стаю и темной ночью с громким лаем, напавшим на одинокого путника, однако и на крик уже не было сил, так что он лишь чуть слышно шептал, от нахлынувшей слабости прикрывая глаза:
– Прочь пошли… прочь…
Виноватую душу так и жгли горемычные слезы, не проливаясь никак, словно облегчить не желая его, а губы кривились и горбились, жалко топорщилась щетка усов.
Николай Васильевич ощущал: еще один миг – и он потеряет себя. Почему же они не понимали, почему же не пожалели его? За какое ужасное преступление они считали его сумашедшим и тем самым сводили с ума?
Он не мог, не хотел, безумие было противно ему.
Как умел, до крайних пределов напрягал ослабевшую волю, он поспешно пустился хитрить сам с собой, перебрасывая закоченевшую на одной точке память, лишь бы растормошить поскорей, лишь бы столкнуть на что-то иное, безразлично на что, пусть вновь на Матвея, на Челли, на Рим.
Читать дальше