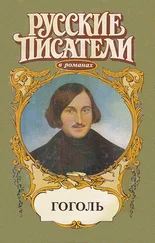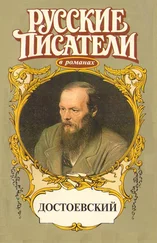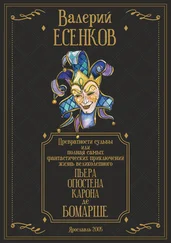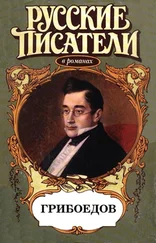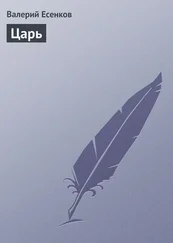– Нет, больше сил я не имею терпеть. Боже! Что они делают со мной! Они льют мне на голову холодную воду! Они не внемлют, не видят, не слушают меня. Что я сделал им? За что они мучат меня? Чего хотят они от меня бедного? Что могу дать я им? Я ничего не имею. Я не в силах, я не могу вынести всех мук их, голова горит моя и все кружится предо мною. Спасите меня! Возьмите меня! Дайте мне тройку быстрых как вихорь коней! Садись, мой ямщик, звени, мой колокольчик, взвейтеся, кони, и несите меня с этого света! Далее, далее, чтобы не видно было ничего, ничего. Вон небо клубится передо мною, звездочка сверкает вдали, лес несется с темными деревьями и месяцем, сизый туман стелется под ногами, струна звенит в тумане, с одной стороны гора, с другой Италия, вон и русские избы виднеют. Дом ли то мой синеет вдали? Мать ли моя сидит перед окном? Матушка, спаси твоего бедного сына! урони слезинку на его бедную головушку, посмотри, как мучат они его! прижми ко груди своей бедного сиротинку! ему нет места на свете! его гонят! – Матушка! пожалей о своем бедном дитятке!..
Вопль истомленной души это был и умиротворяющая музыка слов, которая согревала незримо одинокую душу страдальца.
Николай Васильевич приходил понемногу в себя, потухало отчаянье, и лишь все еще с горечью думалось, что не предвидел, когда создавал своей же окрепшей рукой этот хватающий за душу вопль, как с ужасающей полнотой через сколько-то долгих страдальческих лет выразит этим же воплем и тяжелейшую муку свою.
Ему бы в самом деле в дорогу…
И дорога тотчас явилась ему, легко и с любовью уводя от немилых сердцу сумбуров да кошмаров бестолкового времени. Дорога оказалась широкой и гладкой, как безветренная гладь океана, а он понеживался себе в тарантасе, как в люльке, с мягчайшей нежностью, так и пружинили новые дроги, не в пример тряских железных рессор, только что в два лихие взмаха срубленные в придорожном леске бородатым его ямщиком, так и качало, так и баюкало, утешая, прогоняя печаль, мирно теплело на сердце, чуть кружило в дремотно что-то лепечущей голове.
Впереди, по бокам разметнулся бескрайний простор. Позади подымался серым драконом пыльный дымчатый шлейф, оставляемый его экипажем. Справа, далеко, далеко сплошной полосой чернели леса. Солнце жарким огнем слепило глаза. Мирным звоном потряхивал колокольчик.
Под рукой таился дорожный портфель. По временам он точно украдкой ощупывал нагретую кожу, проверяя без мысли, а так, наобум, по темной привычке своей, на месте ли, с ним ли ноша его, как делал всегда, во всю свою жизнь.
Он мчался куда-то, где его ожидала непременно удача. Он весь устремлялся вперед и вперед. Скорей бы, скорей довезти туда то, что было заключено в этом старом потертом надежнейшим в мире портфелей.
Какая все-таки прелесть, какое великое счастье таится в самом этом бесконечном слове: дорога!
А он тут рассиживал в затасканном кресле, маленький, сгробленный, щуплый, как дряхлейший старик, и пугал себя каким-то сумбуром, каким-то кошмаром, а никакого сумбура, никакого кошмара может не быть.
Скорей бы! В руку дорожный мешок, под мышку верный портфель! Разгулять и развеять тоску! Полечиться немецкими вислыми водами! Освежиться телесно, обновить усталую душу свою и покрепче обстроить себя!
Николай Васильевич встрепенулся.
Он уж снова сидел, а зачем?
Он в самом деле стал подниматься. Взгляд его, было заглохший, стал разгораться. Надежда на обновление расшевелила его.
Как сделалось наше дело, решаем не мы, и все еще может быть впереди.
Он готов был очнуться, опомниться, все сначала вновь передумать, что задумал нынче в кромешной тоске, и с воскреснувшим мужеством приняться за дело.
Да в уши ударила мертвая тишина, сумрак стен оцарапал глаза, очарование стремглав летевшей дороги, пропало куда-то, и осталась одна щемящая боль, еще осталось кружение да противный несмолкаемый звон в голове.
Ему одна оставалась дорога…
И не прежние дороги уже припоминались ему. В горькой памяти зловеще проступала та колея, которая оказывалась последней. И вновь потухали, чернели глаза, точно видеть не желали ее.
Уж сама дорога сделалась для него вредоносной…
Николай Васильевич ни думать, ни вспоминать о ней не хотел, однако ж, как в подобных обстоятельствах непременно бывает всегда, воображение плохо повиновалось ему.
Он настроен был тягостно. Не хотелось погружаться еще раз в сумбур и в кошмар. И к предстоящему готовить себя он устал. И уж если не эта дорога, так привидится что-то иное, а много ли могло привидеться светлого, от которого бы восстала и окрепла душа?
Читать дальше