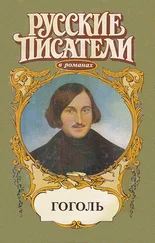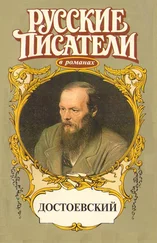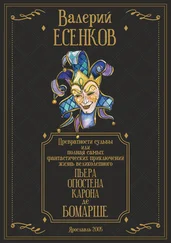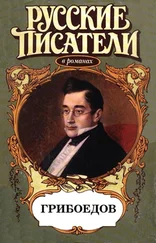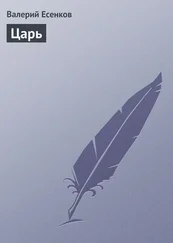Как тут было не продолжать, и он пропустил, что его сигара потухла, и вымолвил, держа ее в потерявшей чуткость руке, точно пожалился, точно молил, чтобы приголубили и чашу от него отнесли:
– Не ведаю, каким чудом и вынес ее, да и вынес-то, может быть, лишь оттого, что слишком мои там молитвы были нужны, ибо приближается ныне время молитв, и без бога ничего не сделает ныне никто в наших нынешних обстоятельствах и при нынешнем положении дела как всего мира, так и наших собственных дел, так уж ныне бесчестно, бессовестно все завелось.
Уловивши необычайное, странное в его речи, в его внезапно осиплом срывавшемся голосе, в несчастном выражении его опрокинутого лица, незнакомец загасил потихоньку сигару и отчего-то зажал ее в кулаке.
Едва приметивши его своеобразную, милую деликатность, и без этой маленькой деликатности ощущая, что перед ним готова раскрыться вся бесхитростная душа этого вполне постороннего, но чем-то ужасно близкого, уже почти дорогого ему человека, готовая, как он верил, всю беду пережить вместе с ним, он прямо приступил с середины, уже не мешкая более, машинально вертя свою потухшую сигару в руке:
– Два года назад, в феврале, я высадился с парохода в Бейруте. Меня порядочно поизмотала морская болезнь, я еле дышал и передвигался с трудом. Поотлежавшись в доме моего гостеприимного школьного друга, сирийского консула, мы отправились вместе в Иерусалим, в святые места. Везли нас злые упрямые мулы. Дорога тянулась берегом моря через Сидон, Тир и Акру. Под копытами мулов плескались плоские волны, а дальше по правую руку, на необозримую даль тускло блестело жидким оловом море, так что глазам было жутко и после морской болезни противно смотреть на него. С белесого неба прямо в лицо било горячее смутное солнце, похожее на адскую сковородку, на каких всем нам жариться когда-нибудь в преисподней за наши грехи. Слева оранжево пламенели и высились голые горы. Было душно и знойно, несмотря на влажное дыхание моря. Я прятал лицо под поля белой шляпы такой ширины, что сделался похожим на гриб, который из прохладного тенистого бора, один черт ведает, из какой крайней нужды, вышагнул на поляну под жгучее солнце, но вс е равно и шляпа не спасала меня, весь я облит был мерзким потом и ерзал в седле, как старая баба, которую везут помирать верст за тридцать к ближайшему лекарю по нашим смертоносным дорогам, а старая баба, виновато помаргивая беспомощными глазами, валится и валится набок под бодрые крики весьма озабоченных ее бесценным здоровьем родных: «Потерпи, потерпи, уж немного осталось!»
Украдкой поддернув поглубже стул под себя, незнакомец придвинулся совсем близко к нему, положив тяжелые руки на стол, обхватив широкой жесткой ладонью стиснутый плотно кулак, в котором зажата была недокуренная скомканная сигара, а он, благодарно взглядывая в его расширенные глаза, сам увлекался повествованием, все прибавляя и прибавляя подробности, точно выписывая одну из своих бесконечных страниц:
– В полдень достигли колодца. Худые погонщики, закутанные в белые тряпки, в белых холщовых чалмах, чернейшими от загара руками, спокойно, без суеты, умело помогая друг другу, отвалили толстую каменную плиту в щербинах и ссадинах времени, влажную снизу, и мы пили горьковатую воду, которую погонщики очень долго поднимали из глубины, и пластом валялись в душной тени двух-трех тощих олив с оборванной серой листвой, точно это были не оливы, а нищенки, на самом солнцепеке стоявшие в ожидании выхода богомольцев их храма, в надежде на скудное подаяние, сами уже ничего не способные дать, а часа через три злые мулы вновь несли нас вперед, прямиком в раскаленное пекло пустыни. Кругом не виделось ни души, как в преддверии ада, точно мы уже спускались туда и нам готовились раскаленные угли. Лишь изредка проплывала под серыми парусами просмоленная баржа с обезлюдевшей палубой, но и она словно мертвая разрезала зеленый хрусталь прибрежной волны. К вечеру мутилось уже в голове и становилось понятно, на какие муки обрек человека Господь, послав его мыкаться на нашу многострадальную землю. Я думал, что иду сквозь чистилище, где жар нестерпимый один за другим неискупимые наши грехи. Лишь эта слабая мысль удерживала в невысоком седле обмякшее тело, походившее на рваный бурдюк, проливший вино, иссохший и сморщенный. Вечером меня под руки стащили двое смуглых арабов и снесли, точно обыкновенную ношу, в шатер из черного войлока, плоский, четвероугольный и мрачный, как гнев падишаха, неправдопобный, непонятный на желтом песке. Перед самым входом тлелась кучка навоза и дымилась вода в закопченном большом чугуне. Кругом заросшие длинной шерстью собаки, которой до самой смерти достало бы мне на носки, коротконогие мулы, поджарые арабские кони, черные козы, голые дети, высохшие под солнцем мужчины, в густо-синего цвета рубахах, в ватных кофтах, в длинных шерстяных черно-белых хламидах, в желто-красных платках, распущенных по широким костистым плечам, висящих вдоль щек и два раза охваяченных двуцветным жгутом, и стройные бабы в длинных рубашках до пят, подобные нашим черкешенкам, о которых так живописно рассказывал Пушкин. Я приходил в себя от вечерней прохлады и размышлял, как велика щедрость Господня, которая насылает все это множество жизни даже посреди безводных песков Иудеи, и как ничтожен слаб человек, когда под иным небом, в иных, более мягких широтах Полтавы или Москвы он стонет и пухнет от голода, не умея терпеливо и с разумом возделывать повсюду благодатную землю.
Читать дальше