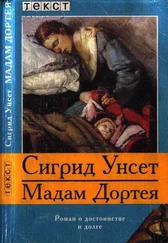Внезапно в их тихое, безмолвное опьянение ворвался раскатистый благовест – мощные удары меди с колоколен кафедрального собора, усердный звон маленького колокола церкви Воздвиженья. Звонили к вечерне и на мысу, в монастыре Святого Улава. Улав отпустил руки девушки.
– Нам пора!
У обоих было такое ощущение, будто колокольный звон благовестил о том, что таинство свершилось. Невольно взяли они друг друга за руки, словно шли из-под венца, и так и продолжали идти, пока не очутились наверху, на городской улице.
Когда Ингунн с Улавом вошли в маленькую темную церковь, монахи уже были на хорах и начали отправлять вечернюю службу. Не горела ни одна свеча, и только пред дарохранительницей с причастием теплилась лампада да на аналоях монахов мерцали крошечные фитильки. Иконы, металлические украшения и церковная утварь поблескивали в коричневатом полумраке, сгущавшемся в кромешную тьму в вышине, под сложенными накрест балками кровли. Сильно пахло смолой, которой недавно, по ежегодному обыкновению, пропитали церковь, и еще с дневного богослужения сохранился в церкви слабый, но острый запах благовоний.
В странном смятении преклонили они колени у дверей и, опустив головы ниже, чем всегда, с необычайным благоговением шептали молитвы. Потом поднялись и тихонько разошлись каждый на свою сторону.
Прихожан в церкви было мало. На мужской стороне кое-где на скамьях, накрепко прилаженных к стенам, сидели старики, да несколько человек помоложе стояли коленопреклоненные в тесном корабле храма меж скамьями и колоннами – то были, по видимости, большей частью работники из монастыря. На женской стороне Улав не увидел никого, кроме Ингунн; она стояла, прислонившись к передней колонне, и пыталась разглядеть иконы под балдахином над боковым алтарем.
Улав сел на скамью у стены – теперь он снова почувствовал, как ужасно ломит все тело. На ладонях вздулись волдыри.
Юноша не понимал ничего из того, что пели монахи. Из псалмов царя Давида ему довелось учить лишь «Miserere» ["Сжалься" (лат.)] и «De profundis» ["Из глубин" (лат.)], да и те он учил кое-как. Но напев он знал – мысленно Улав уподоблял его длинному, низкому гребню волны, который обрушивается на берег и, тихо журча, откатывается назад, – и вначале, всякий раз, когда монахи подходили к концу псалма и пели «Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto…» [Слава отцу, и сыну, и святому духу… (лат.)], он шептал ответ:
– Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen! [Как было вначале, ныне, и присно, и во веки веков. Аминь! (лат.)]
У монаха, который запевал, был глубокий и красивый глуховатый голос. В блаженном полусне внимал Улав могучему одинокому мужскому голосу, который все вздымался и вздымался ввысь, и к хору, который то и дело вступал в его песнопение, вплетая один духовный стих за другим в псалмы. После всех треволнений дня теперь, когда он, сидя в темной церкви, смотрел на поющих монахов в белых одеяниях и на маленькие язычки пламени за решеткой хоров, на душу его снизошли мир и покой. Если он станет творить дела правые и избегать неправых, подумал он, то господь бог явит ему свою власть и милосердие и охранит его ото всех тягот…
Пред его внутренним взором замелькали видения: лодка, Ингунн в бархатном шлыке, осеняющем ее светлое лицо; блеск воды за ее спиной; дно лодки, усеянное блестящими рыбьими чешуйками; темная от сырости тропинка среди крапивы и дягиля; плетень, через который они перелезали; цветущая лужайка, которую перебегали; золотистая сеть над морским дном – все сливалось в изменчивые, пестрые видения под его опущенными воспаленными веками…
Он очнулся, когда к нему подошла Ингунн и тронула за плечо.
– Ты спал, – укоризненно сказала она.
Церковь была пуста, и совсем рядом через настежь открытую южную дверь виднелся зеленый тун монастырского подворья, залитый лучами вечернего солнца. Улав зевнул и потянулся всем своим оцепеневшим телом. Он ужасно страшился поездки домой и потому несколько более властно, нежели обычно, сказал:
– Нам скоро пора в путь, Ингунн.
– Да. – Она тяжко вздохнула. – Кабы можно было здесь заночевать!
– Ты же знаешь, нам этого нельзя!
– Тогда бы мы отстояли утром службу в церкви Христа Спасителя. А иначе нам так и не доведется повидать людей, вечно мы сидим дома – оттого и время так тянется.
– Ты ведь знаешь, когда-нибудь и у нас все переменится.
– Да, тебе хорошо говорить, ты-то был в Осло, Улав.
– Был, ну и что? Я все равно ничего не помню.
– Обещай, когда мы поселимся в Хествикене, ты хоть разок возьмешь меня с собой в Осло на ярмарку или на сход.
Читать дальше