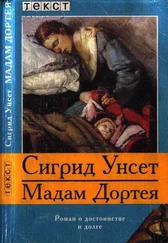Он пересек босиком мокрый тун и подошел к стабуру [ 29], где нынче в верхнем жилье вместе с двумя прислужницами ночевала Ингунн – чтоб ей незаметно ускользнуть со двора. Ради поездки в город Улав надел свое лучшее платье – кафтан и штаны светло-синего аглицкого сукна. Но из одежды этой он уже порядком вырос – кафтан жал в груди, и рукава были коротки, да и полы едва прикрывали колени. Штаны тоже слишком плотно облегали тело, а следы Ингунн срезала еще осенью, так что теперь штанины доставали лишь до середины икр. Но ворот кафтана украшала красивая застежка чистого золота, а стан стягивал пояс, усаженный серебряными розами, с ликом Святого Улава на пряжке; у кинжала были позолочены и рукоятка, и ножны. Улав подошел к крытой галерейке стабура, трижды легонько постучал в дверь и стал ждать.
Запела птица, переливы и посвисты струились, как родниковая вода, заглушая тихий, сонный писк в кустах. Улав увидел птицу; она сидела на вершине ели – крохотная точка на глади золотистого северного неба. Он разглядел, как она, словно трепещущее сердечко, сперва сжалась в комок, а потом снова расправила крылышки. Стаи туч в вышине начали багроветь, побагровело и небо над горной грядой по другую сторону озера, ярким багрянцем отразилось в его водах… Улав постучал снова, на сей раз гораздо сильнее – стук этот так громко отозвался в утренней тишине, что Улав затаил дыхание, прислушиваясь, не разбудил ли кого в домах.
Немного погодя дверь приотворилась – из стабура выскользнула девушка. Тяжелая копна золотисто-каштановых волос в беспорядке падала ей на плечи. Она была в рубахе с короткими рукавами – верх из беленого полотна, расшитого зелеными и синими цветами, подол же – из грубой сероватой холстины. Рубаха ей была длинна и прикрывала узкие, розово-белые ножки. Узелок с платьем она несла под мышкой, в руке же держала котомку со съестным. Протянув ее Улаву, она бросила на землю узелок и, тряхнув головой, откинула волосы с лица, раскрасневшегося после сна, – одна щека была румянее другой. Достав из узелка поясок и перехватив им рубаху, она подтянула ее.
Девушка была высокая, хрупкая, с тонкими руками и ногами, с длинной шеей и маленькой головкой. Лицо у нее было чуть треугольное, с низким, широким, выпуклым белоснежным лбом; на виски словно падала тень от роскошных густых волос. Щеки – слегка впалые, отчего нижняя часть лица казалась слишком длинной, а подбородок заостренным; нос – прямой и короткий. И все же ее личико таило в себе какое-то неизъяснимое беспокойное очарование: нежное, белое с румянцем на щеках; глаза – огромные, темно-серые, с голубыми, как у малого ребенка, белками, затененные темными ресницами, с прямой черной полосой бровей и выпуклыми белыми веками; рот небольшой, но губы яркие, что ягоды. Ингунн, дочь Стейнфинна, была прекрасна в своей чистой юности.
– Давай-ка поторопись, – сказал Улав, потому что она, усевшись на крыльце, стала неторопливо натягивать длинные холщовые чулки [ 30]. – Лучше нести чулки с башмаками в руках, покуда не высохнет трава.
– Не хочу идти босиком по мокрому склону в такую стужу… – Она дрожала от холода.
– Тебе станет теплее, когда натянешь платье, да поторапливайся, видишь – уже совсем рассвело.
Не ответив, Ингунн развязала тесемки, державшие чулки, и еще раз обмотала их вокруг ног. Улав повесил ее одежду на перила.
– Плащ надо взять с собой – день нынче будет ненастный.
– Плащ мой внизу, у матушки, я забыла его взять вчера. Видать, распогодится, а ежели хлынет дождь, мы, уж верно, найдем, где укрыться.
– Коли дождь польет, когда мы будем в лодке… Да и в городе тебе без плаща не обойтись. Но можешь надеть, как всегда, мой…
Ингунн взглянула на него через плечо.
– До чего же ты несговорчивый, Улав! – Она принялась обуваться.
Улав только было собрался ответить, но тут она склонилась над башмаками, и рубаха соскользнула у нее с плеч, обнажив грудь, плечи и ключицы. И внезапно волна новых, неизведанных чувств нахлынула на юношу; робкий и смущенный, стоял он, не в силах отвести глаз от белизны ее обнаженного тела. Будто он никогда прежде не видел его; столь близкая и хорошо знакомая, Ингунн показалась ему совсем иной. Словно бурная лавина обрушилась в душе Улава, и чувства его к названой сестре потекли совсем по иному руслу. Самым пылким из обуревавших его теперь чувств была нежность, в которой сострадание смешивалось с некоторым ощущением собственного превосходства; ее опущенные покатые плечи были такие слабые, но локти уже по-женски округлые. Ее тонкие белые руки казались такими мягкими от кисти до локтя, словно под гладкой, шелковистой кожей не было мышц – в его воображении возникло воспоминание о неспелом, еще не налившемся соками колосе, в котором нет ничего, кроме молочноватой мякоти. Улаву захотелось нагнуться к ней, приласкать и утешить – вот так внезапно ощутил он разницу между ее нежной женственностью и своим собственным плотным, мускулистым телом. Он не раз видел ее прежде в баньке и видел себя самого, свою худую, но плотную, выпуклую грудь, видел, как на животе ходили гладкие, сильные мышцы, как вздувались буграми мышцы, когда он сгибал руку. С детской гордостью радовался он тому, что родился мальчиком… Теперь же это чувство превосходства оттого, что сам он так силен и хорошо сложен, странным образом пронизала нежность; она была так слаба – ему, верно, придется защищать ее. Улаву хотелось обвить рукой эти узенькие плечи, спрятать в своей ладони ее девичью грудь. Ему вспомнилось, как нынешней весной он напоролся грудью на кол – то было на выселках у Гунлейка, – он разодрал тогда платье и сильно оцарапал тело. Его пробрала дрожь, и он решил, что никогда больше не дозволит Ингунн карабкаться с мальчишками на крышу хутора Гунлейка… Он зарделся, когда она взглянула на него.
Читать дальше