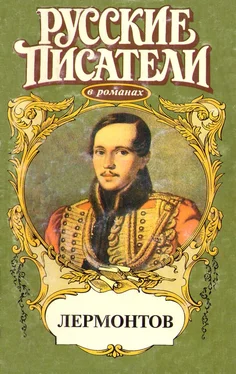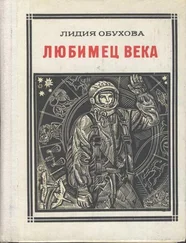Госпожа Чарторижская, ровная в обращении, вечно улыбающаяся — нечто вроде уютной лампы под розовым абажуром в гостиной, — велела кликнуть старшую дочку.
Мишель Лермонтов только что ушёл, и на лице Таши играл лихорадочный победоносный румянец.
Екатерина Павловна полюбовалась ею, мягкой белой рукой, несколько крупной для светской барыни, поправила растрепавшийся локончик, усадила рядом с собой на канапе под холщовой накидкой (летом мебель берегли от пыли).
— Мой ангел, — сказала она по-французски, — у меня к вам разговор.
Таша с готовностью подняла глаза под тёмными ресницами. Прозрачно-лукавый взор был одним из главных её очарований. Он выражал беспечную резвость и одновременно твёрдую волю, редкую в барышне её лет.
— Третьего дня, — продолжала Екатерина Ивановна уже по-русски, — твоему отчиму был представлен молодой человек, настойчиво искавший знакомства. — Она помолчала, чтобы Таша сделала надлежащий вывод из последних слов. — Некто месье Обресков, бывший кирасир, разжалованный из-за проступка, возможно даже шалости, на которые горазды молодые офицеры, особенно если бились об заклад... Впрочем, это предположение. Ничего достоверного мне неизвестно. Но у него в петлице Георгиевский крест, заслуженный в Турецкой кампании. Он из хорошей семьи. Порядочно богат. Зван на послезавтра.
— Надеюсь, ещё не свататься? — беззаботно сказала Таша.
— До этого далеко. Но он видел тебя и в приличной форме выразил восхищение.
Мать и дочь посмотрели друг на друга.
— А Мишель? — шёпотом спросила Таша.
— И, полно! Он дитя. К тому же не выйдет из воли бабушки... Тебе не к чему спешить, душенька, но девушка твоих лет должна быть благоразумной.
— Вы, маменька, всегда благоразумны?
Екатерина Ивановна с укоризной подняла брови, и Таша прижалась к ней с неожиданным смирением. От матери пахло как в детстве: ванилью и малиновыми пенками...
Екатерина Ивановна была довольна своими дочерьми; крошкой Сонечкой, отпрыском её второго брака, подрастающей Дашей, а главное — старшей, Натальей. Таша только второй год выезжала в свет, и, хотя не числилась среди московских красавиц, а тем более не обладала большим приданым, её замечали: на балах без кавалеров не просидела ни одного танца. Привлекало врождённое достоинство: она оборачивалась с таким видом, словно не сомневалась, что за нею тянется непременный шлейф поклонников. Но тут же и забывала о них в притворной рассеянности. Невеликая ростом, пухленькая, румяная, с безбоязненным взглядом серых глаз и упрямым подбородком, она могла бы показаться гордячкой, если бы не вечная улыбка в приподнятых уголках губ.
Дочь обещала стать украшением любой гостиной.
Екатерина Ивановна кривила душой, когда уверяла Ташу, что той нет нужды спешить с замужеством. Покойный Фёдор Фёдорович Иванов оставил вдове совсем немного. Отчасти это было причиной её скорого второго замужества, но и Михаил Николаевич Чарторижский оказался небогат, что, впрочем, искупал заботливостью о жене и падчерицах.
Разговор с матерью ничуть не удивил Наталью. И сама бы так думала. Просто не успела подумать. Дала себе волю попраздновать «именинные дни души» (откуда слова? Из альбома). Она влюбилась в Лермонтова, будучи девушкой своенравной, воспитанной без строгого надзора, но с чётким осознанием себя как сироты, вынужденной заботиться о приличном будущем. И вот явился солидный искатель: Обресков. Она ещё ничего не знала о нём, но повела себя как хитрая невеста: одного отталкивала, другого приманивала тенью отвергнутого. Тем более что сестра Даша то и дело трунила над смешными сторонами Мишеля. Он и стал в её глазах не тем. Раньше глядела внутрь. Теперь только по поверхности. В самом деле! Мишель неловок: то пылок и податлив, то ворчлив, надут. Никакой ровности отношений. Он очень многого хочет от Таши. Она обижается. Ей приятнее, если бы он просто любовался ею. А он почти не замечает ни вышитых косынок, ни туфелек под цвет платью. Она вся и игре, хотя и без притворства. Он погружается в чувство с головой, захлёбывается, ничего не видит. Никакой светскости. Уходит целиком в себя в такие моменты, когда девушка не может этого извинить. Он оглушён не ею, а своей страстью, новизной того, что с ним творится, своим внутренним гулом.
Живой, стремительный в движениях Мишель, баловник, фантазёр, подле неё становился угрюм, замедлен в любом жесте. Он мучительно всматривался в себя; вслушивался — в неё. Звук голоса, его журчание, перебои вздохов — всё это было для него важнее смысла речей. Пугающая проницательность Лермонтова уже и сейчас проявлялась, почти не осознаваемая им. Он вдруг вперялся тяжёлым взглядом в свою любезную — и она начинала ёжиться, вертеться, взрывалась досадой.
Читать дальше