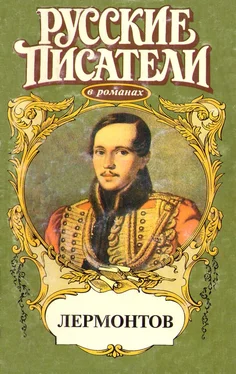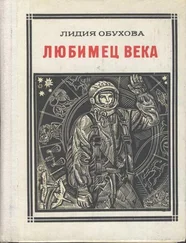Шан-Гирею пришлось уже самому сражаться с Измаил-беем, выжигая «гнезда хищников» — аулы князей Атажуковых (вернее, Хатакшоковых по-кабардински). Павел Петрович и сочувственно досадовал на Измаил-бея, в недавнем прошлом отважного офицера, что тот не сумел склонить сородичей к покорности, и негодовал на него за измену присяге.
Это захватывало воображение. Когда всем семейством отправились на праздник в мирной аул, в каждом джигите под высокой бараньей шапкой Миша Лермонтов готов был видеть романтического Измаил-бея. Тайным переживанием его души в это лето, кроме ранней влюблённости в маленькую гостью кузин, стала сыновняя привязанность к тётушке Марье Акимовне, сверстнице его матери. Пытливо вглядывался мальчик в ласковые черты, старался невзначай коснуться рукой её платья... Всякая мелочь, связанная с Марьей Акимовной, наполняла сердце трепетной нежностью. Последние дни перед отъездом он уже не отходил от молодой женщины, осунулся, украдкой плакал.
Неусыпная бабушка уговорила Шан-Гиреев ехать вместе, погостить в Тарханах, пока не присмотрят себе именья поблизости (Шан-Гиреи подумывали перебраться в центр России). Узнав о согласии, Миша ожил и повеселел.
На обратном пути, уставший от впечатлений, дремля на бабушкиных коленях, он рассеянно думал: как мягко катится коляска по размытым российским колеям и с каким грохотом разлетались камни из-под колёс на горной дороге!..
Третье место в карете пустовало. Добрая немка Христина Осиповна осталась под могильным крестом в Горячеводске. Видно, не всем годилось «пользование» водами; старое сердце не выдержало.
Пока Миша Лермонтов выискивал крохи истории в рассказах тех, кто сам в ней участвовал или слышал от верных людей (дворня упивалась былями и небылицами про пугачёвцев, которые дошли и до Тархан, разве что не пустили здесь красного петуха; глаза прях в девичьей вспыхивали при этом бедовыми огоньками. Да и папенька Юрий Петрович при Бонапартовом нашествии, не мешкая, надел мундир ополченца, был ранен и долго перемогался в Витебском госпитале), — словом, пока мальчик впитывал любую подробность не только ушами, а всем своим раскрытым существом, история вживе надвинулась на Россию. Конец 1825 года, потрясая основы империи, грянул восстанием декабристов!
За несколько месяцев перед этим бабушка оплакала скончавшихся в Москве в одночасье одного за другим братьев Аркадия Алексеевича и Дмитрия Алексеевича. Тех Столыпиных, которых вместе с опальным Сперанским заговорщики прочили в правительство. По многозначительным намёкам можно было подозревать, что внезапные смерти приключились как бы кстати, не положив опасного пятна на фамилию...
Тревожные слухи о мятеже доползли до Пензы не сразу. По усадьбам начались поспешные аресты, а с амвона тарханской церкви поп призывал перехватывать подмётные письма о скорой отмене крепостного права и выдавать смутьянов властям.
Опасливая недоговорённость родных толкала к размышлению...
«Союз спасения» и «Союз благоденствия» образовались, когда Лермонтову не исполнилось и двух лет, в феврале 1816 года. Весь шум, восторг, пыл упрёков, мечты о разумном будущем шли вдали от ребёнка, неведомо для него. До тарханской глуши не долетало никаких отголосков. Быт оставался кондовым, улежавшимся. Бабка круто вела хозяйство; женила и разлучала дворовых по своему усмотрению, взыскивала неусыпно; по наветам наушницы Дарьюшки могла каждого ни за что ни про что «отпендрячить по бокам».
Никита Муравьёв, глава Северного общества, в проекте конституции писал, что «власть самодержавия равно гибельна и для правителей, и для общества... Нельзя допустить основанием правительства — произвол одного человека...».
Этих слов Лермонтов не услышит и через двадцать лет! Новое поколение начинало свой путь не с пригорка, а опять от низины — собственными ногами, своим разумением.
Мишель — так его называли теперь московские кузины вслед за Сашенькой Верещагиной, дальней роднёй и близким другом всех лет юности [8], — бесцельно стоял у битком набитого шкапа в мезонине на Молчановке. Наугад достал растрёпанную книгу «Зрелища Вселенныя», привезённую из Тархан вместе с другим скарбом, полистал се бегло, усмехнувшись надписям нетвёрдой детской руки: «Кирик и Улита — Утюжная плита».
Ах, он всегда был одержим страстью к плетению рифм, с самого малолетства, сколько себя помнил.
Великий Каракос
И маленький Мартирос...
Читать дальше