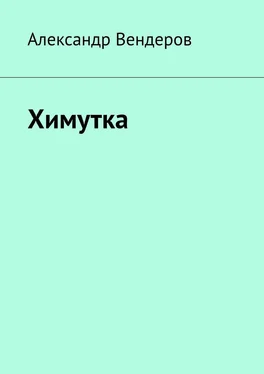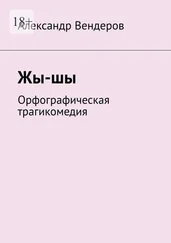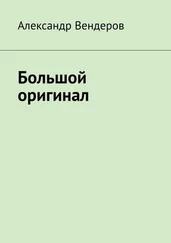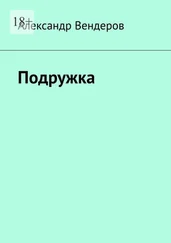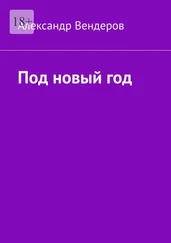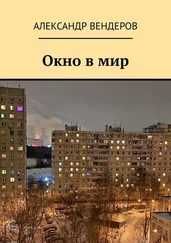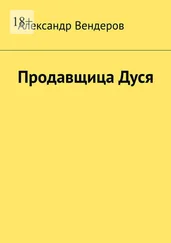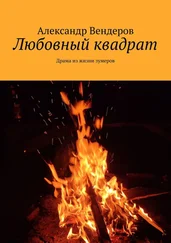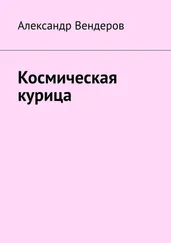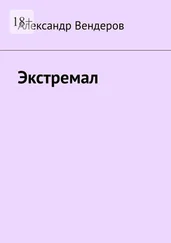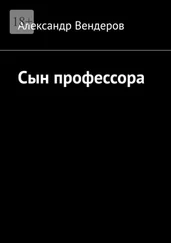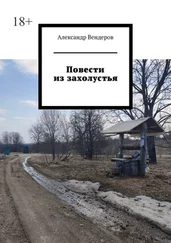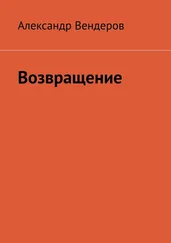Первомай, как и седьмое ноября, официальным порядком отмечали не в каждой деревне, а лишь в центрах сельсоветов. Вот и в Ново-Александровке начали готовиться заранее, сразу после Пасхи, чтобы отпраздновать день солидарности трудящихся не хуже соседей. В районе для сельсовета выделили новые флаги, транспаранты и портреты вождей, и за всеми этими материальными ценностями председатель отправил Ивана Вендерова на подводе. Сказал ему так:
– Поязжай, Иван, да смотри усё у целости и сохранности довези. Не то голову́ нам сымуть, если какая клякса на портрете товарища Сталина обнаружится.
– Ага, ещё вредителями назовуть. Поеду и усё по описи проверю, за ето не беспокойси. Табе чаво-нить из району привезь нужно?
– Соли купи килограмм пять, а то мы почитай усю съели. Кончается!
– Ето куплю. А мене пяску сахарного купить надо да ещё конфеток ребятишкам.
Тем временем в Ново-Александровском клубе одну за другой проводили репетиции Первомая. В первые годы Советской власти программа таких мероприятий определялась снизу, то есть самими их организаторами, а теперь нужно было следовать указаниям сверху, чтобы чего-нибудь не забыть и в то же время не сказать, не сделать что-то лишнее. В вышестоящих организациях, которые люди обозначали жутковатым в своей неопределённости понятием «там», за такое по голове не погладят.
Праздник в Ново-Александровке готовил Сергей Петрович Гусев – учитель начальной школы, двадцатисемилетний пролетарий родом из Ленинграда, после армии окончивший институт имени Герцена и распределённый в деревню. В одиннадцатилетнем возрасте будущий учитель вместе с другими мальчишками сам был на баррикадах – как в феврале, так и в октябре семнадцатого года. Потому и считал себя сопричастным революции и установлению Советской власти. Он рос без отца вместе с двумя младшими братьями, а мать, работница Путиловского завода, была из числа самых низкооплачиваемых, неквалифицированных рабочих, отчего её жалованья едва хватало на самую непритязательную еду. Сергей Гусев на все сто процентов был человеком советской системы, которая помогла ему, полуграмотному мальчику из питерского подвала, стать человеком с высшим образованием. Оттого и за соблюдением церемониала грядущего праздника Сергей Петрович следил строго, чтобы не допускать никаких вольностей в трактовке событий, в честь которых установлено торжество. Он сам написал весь сценарий Первомая в Ново-Александровке.
– Ну как вы идёте? – в сердцах выговаривал он комсомольцам, когда репетировали шествие. – Вы же не за грибами идёте, а на первомайской демонстрации! В ногу надо!
– Так, Сяргей Пятрович, мы же у арьмии покуль не служимши. Не обучены в ногу-то, – оправдывались парни.
– Значит, будем учиться. Федя, становись вперёд: ты как будто потолковее других. И ещё: Митя, как ты держишь портрет товарища Сталина?
– А как я дяржу? – удивлялся упрёку Митя.
– Криво держишь! Ещё полбеды, если по недомыслию. А то могут подумать, что в насмешку. Значит, кто ты получаешься? Вредитель и тайный враг советской власти.
– Какой я враг? – оторопело возражал парень. – Мой отец – самый бедный крестьянин у Старых Рамешках, первым у колхоз пошёл.
– То-то и оно. Значит, стыдно тебе должно быть. Строимся, товарищи комсомольцы!
Иван Вендеров готовился не только к государственному празднику, что как секретарю сельсовета полагалось ему по должности, но и к продолжению этого праздника уже в Спас-Вилках с семьёй и друзьями. А чтобы весело отмечать праздники, в русских деревнях обыкновенно гонят самогон. Делать это было строжайше запрещено даже для личного употребления, не говоря уже о производстве напитка на продажу. Подальше от людских глаз, чтобы не нашёл участковый милиционер, в Тухлом углу был сооружён шалаш, в котором мужики заботливо спрятали самогонный аппарат. Укрыли его так, чтобы не повредила непогода, и по мере надобности ездили к шалашу. Тридцатого апреля, в воскресенье, Иван собрался заняться самогоноварением вместе с соседями – Василием Егоровым по прозвищу Рапчей и Никифором Крюковым, отцом тракториста, по прозвищу Никеш. К слову, у самого Ивана было прозвище Изоб, а жену его Прасковью в деревне называли Пашей Изобихой 9 9 Надежду Егорову, жену Василия, называли Надей Рапчеихой
. Откуда такие дивные слова, часто несозвучные ни с именами, ни с фамилиями, не называющие характерных черт людей? Неизвестно, а вот приклеивались же эти прозвища и часто переходили по наследству.
Читать дальше