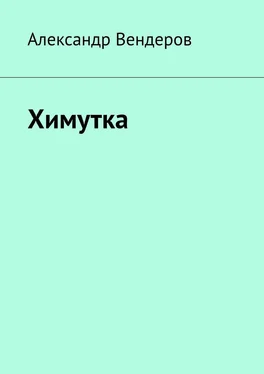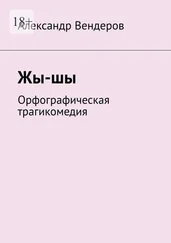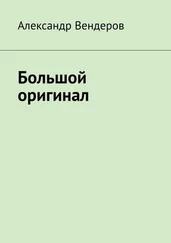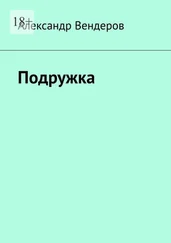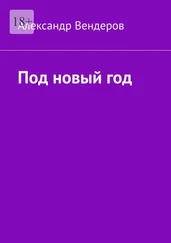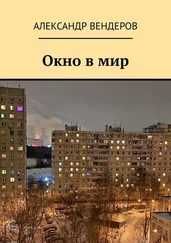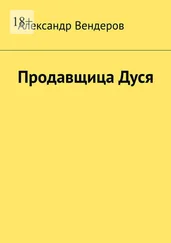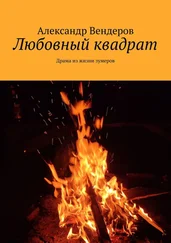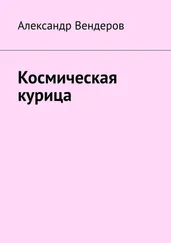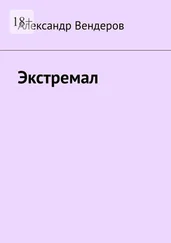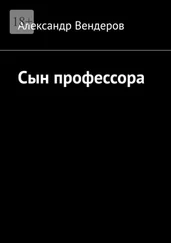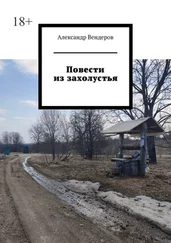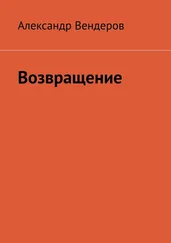На Спас-Вилки снова опустилась ночь, но Химутка, вопреки обыкновению, долго не могла уснуть. Снова память растревожил разговор про старину и дневные её воспоминания о подруге детства. Она так подумала: если в эту ночь она преставится и ангел на небесах спросит: «Раба Божия Евфимия, была ли ты счастлива в своей земной жизни?», то ей придётся ответить, что счастья на такую длинную жизнь выпало мало. Мать её, Акулина, родила четырнадцать детей, из которых Химутка была седьмой по счёту. Как только из люльки, подвешенной к потолку, вырастал один ребёнок – так ложился другой. Жили они в старой пятистенной курной избе, построенной то ли при Елизавете, то ли при Екатерине, где толстый слой сажи и копоти покрывал изнутри потолок и стены. Когда Химутке было десять лет, отец умер, надсадившись на барщине. Мать доживала вдовой. Да и кто замуж возьмёт сорокалетнюю женщину с таким количеством детей? Тем более что крестьянка этого возраста считалась почти старухой.
Явился Химутке в воспоминаниях и тот самый лютый приказчик, мещанин из Вязьмы. Как, бишь, его звали? Этого Химутка припомнить не могла. То ли Осип Иваныч, то ли Орест Ильич. На языке вертелось, а на ум не шло. С барином говорил он словоерсами: «Да-с», «Нет-с», «Извольте-с». И, само собой, требовал прибавления этой самой буквы к словам, исходившим от нижестоящих, когда бывал среди дворовых людей 8 8 Дворовые люди, или дворня – крепостные, которых их господа использовали в качестве домашней прислуги
. В деревне, среди земледельцев, такое бы не прошло: крестьяне презирали эту лакейскую привычку, и даже подобострастный воробинский староста Гаврила не решался таким способом выражать почтение к приказчику, когда разговор происходил при мужиках.
И новое воспоминание: их с Павлом свадьба. Как только дети входили в репродуктивный возраст, родители женили их по своему разумению, и эти самые подросшие дети обречены были повторить жизненный путь родителей. Химутке едва исполнилось семнадцать лет, когда мать сговорилась со старым Гордеем: тому нужно было женить сына. Жили они тоже в Воробино, на другом краю деревни. Приказчик свадьбу разрешил, и в день преподобной Харитины, в воскресенье, пошли Химутка с Павлом Гордеевым под венец в церкви Рождества Христова. Осень была, дождливо и неприютно, а в церкви так тепло. И свечи горели, и молодой батюшка читал молитвы высоким голосом, похожим на голос подростка. Химутка даже и теперь ощутила, как грустно ей было тогда. Её выдавали замуж за совершенно чужого человека. Конечно, они жили в одной деревне и потому знали друг друга с детства, вот только Павел слыл букой. Ну как она с таким свой бабий век вековать станет?
А потом была уже взрослая жизнь. Муж Павел и в самом деле оказался человеком холодным и замкнутым. Он жил словно в своём, лишь для него одного созданном мире, взаимодействуя с миром реальным только по необходимости. Ни разу за всю женатую жизнь он супругу не приласкал. Деревенские мужики, известное дело, красно говорить не мастера, но и среди них Павел Гордеев отличался нелюдимым нравом. Химутка не знала, что у него на душе, о чём он думает и мечтает, хотя и прожила с ним четверть века. А зимой 1884 года, после праздника Сретения Господня, задавило Павла ёлкой, когда они с мужиками возле деревни Петушки дрова заготавливали. «Можеть, он хучь щас ослобонимшись? – думала Химутка. – Тамака, подимте, лучше, чем тутака. Можеть, на том свете с им стало про што поговорить? Узнаю скоро, увижу яво и ребятишек своих. Не любили друг друга с Павлом, но и не ругалися шибко. Раз венчаные, то такой нам хрес – вместе быть».
Уже первые петухи запели в Спас-Вилках, когда Химутку сморил сон. А молодым скоро на работу вставать. Посевная продолжается.
Весенние дни катились дальше, и Страна советов приблизилась к одному из двух главных государственных праздников – дню международной солидарности трудящихся, что отмечается первого мая. Другой главный праздник – день Великой Октябрьской социалистической революции, однако в деревне с большим размахом отмечали именно Первомай. Погода весной лучше подходит для народных гуляний, да и передохнуть крестьянам посреди посевной не будет лишним. Разогнуть спину, отдышаться, посмотреть по сторонам, чтобы через два дня снова приступить к работе на земле. Праздничным днём считалось и второе мая.
Праздники советские, церковные и народные вроде Ивана Купала пока сосуществовали, хотя государство боролось с праздниками, не входившими в официальный календарь, в особенности с религиозными. С самых первых лет Советской власти большевики повели богоборческую кампанию. Атеизм стал важной частью государственной идеологии. При этом закрытие храмов и репрессии против священников на фоне внедряемого культа Маркса, Энгельса, Ленина, а в последние годы и Сталина, выглядели так, будто Советы хотят заменить традиционные для СССР христианство, ислам, иудаизм и буддизм новой религией – коммунизмом. Вместо Бога и святых – руководители государства, а также теоретики и практики революции. Вместо Библии и Корана – сочинения вышеназванных товарищей, вместо икон – портреты этих людей, а вместо крестных ходов с хоругвями – демонстрации с кумачовыми флагами и лозунгами, напечатанными на ткани того же цвета.
Читать дальше