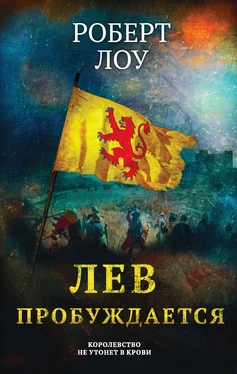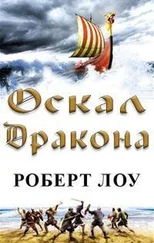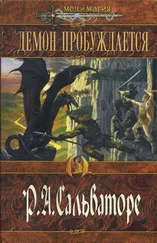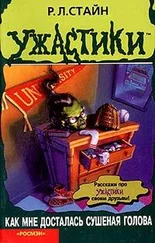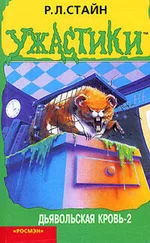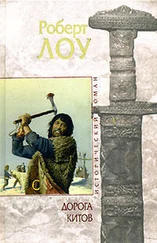Теперь Хэл и Сим знали, кто он такой, потому что это Биссет сумел выложить заплетающимся от усталости языком: писец и письмоводитель Ормсби, тот самый, кого Уоллес поклялся сыскать, кто скрепил своей подписью документы касательно смерти каменщика.
Хэл почти забыл об этом деле, и прибытие Биссета немало изумило его по целому ряду причин: взять хотя бы то, что он был отправлен в путь с грамотой от Уоллеса, обещав в обмен на жизнь предоставить свой рассказ в распоряжение сэра Генри Сьентклера Хердманстонского. Когда же сказанный сэр Генри будет удовлетворен и разрешит его от обязательств, письмоводитель Биссет волен идти, куда ему вздумается.
— Мне велено говорить только с вами, и ни с кем более, даже с Брюсом, — поведал мокрый до нитки толстый коротышка, покачиваясь от усталости. — Молю вас, дайте мне поспать, прежде чем приступать с расспросами.
Сим был поражен, но Хэл проникся немалым восхищением — и перед неколебимой верой Уоллеса в некоторых людей, и перед тем, что похожий на бочонок с салом писаришка, который мог попросту удрать, выказал более рыцарской чести, чем любой из аристократов, неделями лаявшихся здесь, как барышники на ярмарке.
— То была она самая, никак иначе, — повторил Сим, таща прочь Хэла, разглядывавшего спящего Биссета.
Хэл промолчал. Это была она. Снова сбежала и явилась прямехонько к Брюсу. Эта мысль отозвалась резкой болью, и он яростно отогнал ее. Глупо, думал Хэл, воздыхать по любодейке графа. Это лишь то, что предрекал местный священник, старик Барнабус: время залечило рану супружеской утраты и разбудило его чресла. Сгодилась бы любая девка в рубахе наизнанку, как повелевает закон блудницам, свирепо думал он, в то время как занозой застрявшая мысль об Изабелле, графине Бьюкен, с мокрыми волосами цвета осеннего папоротника, закрученными, как его усики, с усталыми голубыми глазами и теплой улыбкой на лице делает это промозглое место еще более несносным.
Она да тихонько похрапывающий Биссет — еще заноза в сердце Хэла, потому что точь-в-точь такие же звуки издавал во сне малыш Джон. Что ж, теперь его сын спит, не издавая ни звука. Вечным сном…
«Господи, — свирепо подумал он, — да что же может быть хуже?»
— Сэр Хэл, сэр Хэл!
Оклик заставил их повернуть головы, и оба в изумлении воззрились на пару, подталкиваемую из тьмы чопорно напыжившимся сэром Жервезом.
— Еще тявкающие собачонки, — изрек рыцарь, разворачивая коня и направляясь прочь. Хэл воззрился на Лисовина Уотти. Псаренок жался к нему в тени, как щепка, скукожившись от дождя.
— Мощи Христовы! — гаркнул Уотти. — Аки же десно вас зреть! Нипочем не домекнете, что содеялось…
Роксбургский замок
Праздник Преображения Господня, август 1297 года
Стон; покрывало зашевелилось. Ральф де Одингеззелес настороженно ждал с рубахой в руках, оценивая настрой и расположение, прежде чем ступить вперед к полусонному господину, под хруст соломы и перьевого матраса перекатившемуся, чтобы сесть, моргая, на край коробчатой кровати с пологом.
Ральф переместился к накрытому кувшину с теплой водой, налил ее в таз и поднес его вперед. Деликатно протянул хозяину золоченый горшок, скрывшийся под ночной рубашкой; послышалось журчание. Ральф терпеливо стоял, держа таз, полотенце на одном предплечье и чистую рубаху на другом; хозяин покряхтел, испустил стон и приподнял одну ягодицу, чтобы пискляво пустить ветры.
Зевнув, Хью Крессингем вернул ночной горшок Ральфу, смочил водой из таза лицо и коротко стриженную голову, а потом утер брылястые щеки протянутым полотенцем. Медленно встал и заморгал навстречу новому дню.
Ральф де Одингеззелес наблюдал за ним — бесстрастно, но осторожно: Крессингем невысок, заплыл жиром, глаза выпучены, как у рыбы, а щеки покрыты щетиной, потому что из-за чувствительной кожи стирать бороду пемзой слишком болезненно, а отращивать бороду — чересчур колко. Да и модной прически он избегал — длиной до шеи, подвитой, как у Ральфа; для поддержания видимости, что получает жалованье пребендария не зря, Крессингем напускал на себя вид монаха, хоть и без тонзуры, в результате чего прическа смахивала на перевернутое птичье гнездо.
В своей помятой белой ночной сорочке он казался сущей размазней, каша кашей, но Ральф де Одингеззелес знал, какой крутой норов тлеет в груди этого человека, снедаемого гордыней и завистью.
К моменту, когда Крессингем облачился в рубаху, штаны и камзол, расшитый лебедями — пока не зарегистрированными, — якобы его герба, вся прискорбная неразбериха жизни снова обрушилась на него, и Ральф де Одингеззелес, подошедший с gardecorps [44] Мужское одеяние XIII в., представлявшее собой свободный балахон с прорезями в рукавах, в самых простых версиях напоминавший пончо.
, стал еще осторожнее. Опыт научил его, что гро́зы, сбегающиеся на челе Крессингема, обычно кончаются саднящим ухом — таков удел оруженосца, как он открыл для себя.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу