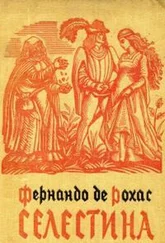Он уже привык к нему, как к звуку собственных шагов. Лет пять назад Сандро познакомился в Принстоне с Джулианом Джейнсом, который рассказал о своей книге — он над ней много лет работал и исследовал истоки внутреннего мира человека. По мнению Джейнса, человеческий род разработал язык за сто тысяч лет до рождества Христова. Но сознание и разум были открыты им всего лишь за тысячу лет до новой эры. А в промежутке люди руководствовались магическими и мистическими голосами, которые подавали им знаки, просачиваясь из правого полушария головного мозга, как это происходит у параноиков. Между вторым и первым тысячелетием до новой эры в результате обширных миграций и распространения письменного слова возникли общества слишком сложные, чтобы ими могли управлять оракулы и провидцы. Человек научился сосредотачиваться в себе и обнаружил в себе сознание. Сандро напомнил тогда Джейнсу — а тот поспешно записал — мысль Ортеги о том, что за четыре века до нашей эры Сократ обнаружил разум на афинских площадях, хотя предшественники Сократа и пользовались им задолго до того, не подчиняя, однако, ему всего многообразия жизни. Потом он добавил, что владычество этих священных и необъяснимых голосов доказывает их значение, ибо они просуществовали почти сто тысяч лет. «Perhaps it would not be a bad idea to go back to it and to undo what we have done in three millenia». («Возможно, не так уж глупо было бы снова вернуться к ним и перечеркнуть всю нашу практику последних трех тысячелетий».) Джулиан Джейнс улыбнулся и пожал плечами. «Таким образом, дорогой Васари, вы перечеркиваете всю мою книгу». — «Нет, просто я предлагаю вам написать новую, с совершенно противоположной идеей».
Теперь, сидя с закрытыми глазами у себя в кабинете, а вернее — в кабинете Р., где Марина смотрела телевизор, выключив звук, Сандро подумал, что чужой голос, который он столько раз чувствовал внутри, в конце концов превратился в его собственный. «Кем бы я ни был — черновиком Р. или человеком из плоти и крови с трезвым умом и ясной памятью, — я еще и тот, кто во мне говорит и мучительно умирает. Тот, кто там, во мне, тоже слышит других, говорящих в нем и пробивающихся к его сознанию».
На телевизионном экране был вечер, и вечер этот был в Мадриде. Франко уже умер, и останки перевезли из резиденции Пардо во дворец Орьенте. Там тело выставили в Колонном зале, как сообщил комментатор, на катафалке Марии-де-лас-Мерседес, первой супруги Альфонсо XII. Колонный зал со светильниками времен Исабели II, фресками Коррадо Джиакинто [130] Итальянский художник (1703–1765).
, мраморным полом выбрали из-за удобства: в нем были две двери, вход и выход; из монастырей святого Иеронимо и Королевских затворниц привезли погребальные покровы и украсили зал. Нескончаемый людской поток тек вдоль низкой решетчатой ограды и терялся где-то у площади Испании. Говорили, сотни тысяч людей готовы спокойно выстоять ночь и утро, чтобы проститься с телом. «Они мне не в диковинку. Это те самые, что восторженными толпами приветствовали Годоя, Желанного, короля-самозванца, Риего, Эмпесинадо. И они же, пыряя ножами, волокли Годоя в Аранхуэсе; они притащили на эшафот Риего на угольной повозке и потом забрасывали камнями его мертвое тело, разрубленное топорами и выставленное на позор в двадцати городах; они шилом и навахой вспарывали живот Эмпесинадо, когда его, закованного, возили в клетке, и плясали от удовольствия в то время, как палач сжигал его останки; они ворвались в этот самый дворец Орьенте с веревками, собираясь вешать Желанного, а когда тот ехал в Кадис, они заставляли его прижиматься к окошку кареты, чтобы плевать ему в глаза». У ворот караульные без устали повторяли: «Не забудьте, нельзя входить с пакетами, сумками и фотоаппаратами. Не забудьте, нельзя входить с пакетами, сумками и фотоаппаратами. Не забудьте…» У самых дверей очередь замедляла шаг и останавливалась. Швейцары вежливо просили входить в зал, разбившись на четверки, и так проходить мимо гроба, однако никому не хотелось идти в последнем ряду. Вечер был спокойный и холодный.
На улицах выставили посты, колокола отбивали время. Комментаторы рассказывали, как прощаются с телом верноподданные, ибо, по словам одного из них, это войдет в историю. Священнослужители благословляли тело, военные — по-военному отдавали честь. Были и такие, что падали на колени у изножья гроба, а иные, глянув на гроб, крестились. («Я видел их в церковных процессиях и на гуляньях в день святого Исидро, в церквах, на бое быков, на распродажах, постоялых дворах, в трактирах, на свадьбах, пирушках, в публичных домах и тюрьмах. Слышал, как они славили инквизицию, цепи, свободу, конституцию, королевскую власть, веру, революцию, смерть, тюрьмы, Родину, измену, месть, милосердие, невежество, абсолютизм, отвагу, боевых быков и церковное вино».) «Как вы думаете, дадут мне поцеловать его, когда я подъеду? — вопрошала старуха, вся укутанная, с головой утопая в кресле на колесиках. — Как вы думаете?..» Цыгане предъявляли удостоверения личности: «Мы — цыгане из Посо-дель-Тио-Раймундо. К нам он относился по-доброму». Старик растирал окоченевшие руки и задыхался в приступах кашля. «Всю ночь стою, ни минуты не спал, и не уйду, пока не увижу, как он лежит там, во дворце». Другой, закутанный по самые уши, тряс головой. «Для всей страны он был отцом родным. Отцом родным, да и только». («Нет, они восторженно рукоплескали не только Принцу Мира, Фернандо VII, Рафаэлю Риего и Хуану Мартину Эмпесинад, но еще и Костильяресу, Педро Ромеро, Хосе Ромеро, Жозефу Бонапарту, Мюрату, герцогу Ангулемскому, англичанам и всем ста тысячам сыновей святого Людовика. А сейчас они скопом двинулись во дворец Орьенте — прощаться с покойником, которого ни один из них, наверное, и живьем-то не видал. Но, по сути дела, они идут не во дворец, они идут никуда, ибо, как я всегда говорю, думая о них, люди не знают дороги и не ведают, кто они».)
Читать дальше
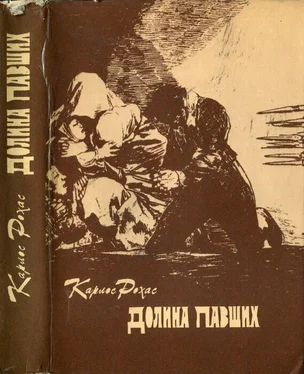






![Константин Муравьев - Тени павших врагов [litres]](/books/409919/konstantin-muravev-teni-pavshih-vragov-litres-thumb.webp)