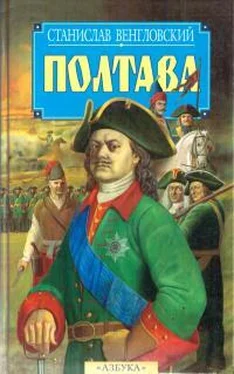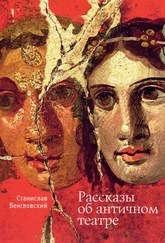В толпе мелькнуло лицо щеголеватого казака, который недавно водил к Яценку, — понятно, чья работа. А взгляд у старшого не то чтобы сердит, но в нём, как и в жесте длинного вытянутого пальца, настоящий металл.
— Следуй за нами! И не трусь! Ты взят для малеванья.
Один солдат уже отцепил казацкую саблю, другой выставил перед собою своё ружьё, будто пленили шведа или мазепинца.
— Иди! Иди! Не трусь.
Вели сквозь толпы людей. Те не обратили внимания. Однако если обращали, то ругали, иногда с подчёркнутой ненавистью: такой молодой, а уже продался?
Одного солдата Петрусь знал: был в крепости. Защитников Полтавы легко узнать хотя бы по тёмному цвету лица, по ранам, не успевшим затянуться... Вглядевшись внимательней, он сделал вывод, что и второго солдата видел на валах, что они оба не раз сражались рядом. Как же теперь... Сопровождавшие молчали.
Сначала Петрусь намеревался юркнуть в кусты, в толпу, может, и не будет погони, не злодей, а чтобы стрелять — разве станут? В такой день? Но постепенно подобное намерение исчезло.
— Куда ведёте? — спросил.
Вместо ответа начальник махнул рукою в белой перчатке.
Вывели из крепости. Чудом уцелевшая хатёнка за холмом, с разорванной соломенной стрехой, уже превратилась в шинок. Там торговали горелкой. Прыткая шинкарка, выскочив на перекосившееся крыльцо, замахала навстречу обеими руками, приглашая гостей.
— Кто это? — спросила с тревогою в голосе, указывая глазами на Петруся.
Старшой, не отвечая, взял из её рук чарку и кусок хлеба, затем разрешил своим подчинённым тоже войти в шинок. Там собралось немного людей, но они уже наполнили помещение своими голосами. Стража усадила пленника на скамейку между своими оголёнными саблями.
— Бери чарку! — почти силой втолкнули в пальцы синеватую стеклянную посудину. — Выпьем за нашу победу!
И Петрусь впервые в жизни влил в себя целую чарку жгучей жидкости.
Солдаты, их начальник, снявший белые перчатки, кричали: «Молодцы! Выдержали! Выстояли!» — и все трое, вместе с подвыпившими на радостях казаками, затянули песню о сизом орле над чистой степью — так, что и Петрусь, у которого сразу зашумело в голове, запел вместе со всеми, удовлетворённо вслушиваясь в свой голос, вплетающийся в чужие голоса, будто там белый голубок трепещет крыльями между сизыми голубями. И вдруг подумал: нет, нужно ехать в Киев, намалевать на тех будущих воротах подвиги казаков и солдат, всех людей, чтобы все надолго, навек запомнили, как били вместе врагов.
Один солдат, наклонившись лицом к Петрусевым глазам, возвратил ему саблю — память о товарище Степане, — ласково обнял, не переставая петь песню... Что ж, Петрусь поставит в своём малеванье именно этих молодых и пригожих парней, молодых, пригожих, но с обожжёнными огнём лицами, с рубцами, намалюет именно этих казаков в полотняных сорочках, и молодых, и немолодых, рассевшихся, обнявшихся за тёмным дубовым столом, пока что единственным в хатёнке, зато густо уставленным напитками. Он видел их ещё вчера на валу. Намалюет шинкарку с лоснящимися, словно блинчики из печки, щеками и какими-то искрящимися глазищами. Намалюет и полковника Палия... Намалюет множество виденного-перевиденного люда... А ещё постарается совсем по-иному изобразить Мазепу.
Петрусь встал со скамейки, вышел из шинка — поющие не останавливали. А когда он возвращался, на крыльце его встретила шинкарка.
— Ой, голубь мой! — зашептала она. — Я уже подумала, что и тебя на муки ведут.. Тут одного бандуриста — только что увели его — били, били...
— Били?
Шинкарка с опаской глядела на прикрытую дверь.
— За то, что Мазепу хвалил... И не отрёкся, завзятый, от своих слов, так и увели...
Шинкарка ещё что-то нашёптывала, хлопая огромными глазами, а Петрусю снова припомнился тот голос, который он услышал вчера за своей спиною, когда хотел уничтожить гетманскую парсуну... Да, нужно торопиться к краскам, а не прятаться от них, завертелось в голове. Нужно пользоваться наукой старого зографа Опанаса, вместе с людьми думать о будущем, искать спасения, как то всегда неутомимо делал батько Голый! Тогда и придёт новое понимание, что делать дальше, поскольку хоть и много чего перевидел казак за этот год, много передумал, а жизнь понять — ой, как много ещё нужно знать, ой, ой... Умно говорил зограф Опанас. Господи, помоги, чтобы снова не ошибиться.
С тех пор как царское войско вышло из своего ретраншемента, чем очень удивило короля, и выстроилось перед укреплениями, готовое к сражению, и как только король на лесной поляне под высоким дубом, ещё не веря в своё везение, приказал фельдмаршалу Реншильду бросить шведскую армию от леса, куда она попятилась после тяжёлого продвижения между редутами, — бросить её вперёд, хотя и граф Пипер, и генерал Левенгаупт, и генерал-квартирмейстер Гилленкрок умоляли возвратиться к Полтаве, не ввязываться сегодня в сражение, ведь так много солдат полегло перед редутами, которых никто не надеялся здесь увидеть, и значительная часть войска, отрезанная на правом фланге, под командованием генералов Росса и Шлиппенбаха затерялась в лесу, примыкающем к огромному полю, — с того времени сумасшедшая лихорадка начала трепать короля и уже не отпускала ни на мгновение, и всё последующее, что происходило с тех пор, было окутано красной густою дымкой, будто творилось во сне, и он, опомнившись, напрасно старался столкнуть с себя густой туман, разорвать его путы — ничего не получалось...
Читать дальше