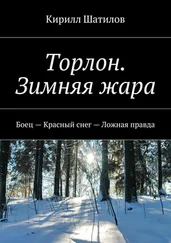Сейчас, пока нет казаков, можно подумать о чем-то хорошем. Вспомнить детей. Эрна, должно быть, уже большая Когда Франц уходил на фронт, ей было десять лет. Теперь — пятнадцатый год. Она обещала помогать матери и хорошо учиться. А Генриху девять лет. Он, наверное, плохо помнит отца. При расставании плакал и сокрушался: кто же будет помогать решать задачи? Теперь он, наверное, решает задачи сам.
Над головой послышался шум. Франц крепче сжал рукой коробок со спичками. Он не думал о своей смерти. Ему хотелось представить лицо Марты, какое оно теперь. Должно быть, она совсем измучилась от работы и недостатков. Как хорошо было бы, если бы кто-то ей помог…
Послышались частые выстрелы. Это было совсем близко. Франц снял шапку — так казалось слышнее. Бывалый солдат, он сразу определил, что перестрелка велась с двух сторон. В приближение своих он не верил. Он продвинулся осторожно вдоль откоса. И вдруг увидел самое невероятное: по дну оврага бежал Миха.
Франц махнул рукой — уходи! Но Миха продолжал бежать:
— Приказано отступать!
— Ты говоришь, как золдат!..
Франц бросил гранату и, подтолкнув Миху вперед, побежал с последней оставшейся вдоль оврага.
К дому дорожного мастера ясно доносился грохот боя.
Гряды серых облаков походили на клубы дыма, холодили, дышали зимой и тревогой. Андрей Косицкий с беспокойством вглядывался в даль, но все же он решил остановиться именно здесь. Дальше ехать нельзя: можно ворваться в полосу боя, а главное — вывезенная им из Сапетина Катерина была совсем плоха, ей необходимы были тепло и покой. И так было глупо и жестоко держать женщину в какой-то случайно попавшейся хате в ожиданий, пока придут известия о сотнике Коваленко. Косицкий решил везти ее к Трофиму, чтобы тот доставил ее в Казаринку. Игра в заложников, да если еще заложником оказалась избитая до полусмерти женщина, была не по его характеру. Он умел думать, ненавидеть, сражаться только на бумаге. В жизни это получалось иначе… Въехали во двор. Усталые лошади поникли мордами. Бока у них запали, ничего прежнего не оставалось от рысачьей резвости.
— Куда это ты меня доставил? — спросил Попов.
Косицкий не ответил. Казак надоел ему до смерти. Уж он и отпускал его, и гнал. Но в ответ слышал одно: «Взял в плен — вози и корми меня, как на войнах происходит». Хитрил Попов, боясь попасться Черенкову или шахтерам. Сообразил, что Косицкий постарается скрыться и от тех, и от других.
— Курень будто знакомый, — проворчал Попов, вставая с саней. — А наши, видать, колотят шахтерню…
Он наставил ухо в подветренную сторону, откуда доносились отзвуки ведущегося у Косого шурфа боя.
— Поможешь перенести женщину в дом, — сказал Косицкий, подгоняя сани к двери. — Хозяин! — позвал он.
Никто не ответил, хотя на двери замка не видно.
— Какой дурень усидит в хате, когда война рядом! — бодро произнес Попов, вываливаясь из саней.
Косицкий открыл дверь. Осторожный Попов метнулся за угол.
— Есть кто живой? — спросил Косицкий.
Дом был пуст. Решив, что Трофим и в самом деле ушел подальше от сражения, Косицкий заколебался: оставаться или ехать дальше к Казаринке? Черт с ней, с этой опасностью встречи с большевиками, — ему невыносимо было глядеть в страдальчески расширившиеся глаза женщины и терпеть ее упрямое молчание. Глаза эти следовали за ним повсюду. Он не мог спать, не мог вспомнить ни одного своего стихотворения, только без конца повторял строку из Леси Украинки:
Темнотой и грустью полнится могила…
Косицкий вышел из дома. По-прежнему слышались стрельба и взрывы. Небо не предвещало хорошей погоды.
Из-за угла вынырнул Попов.
— Места хоженые, — сообщил он. — И в посадочке будто скрылся кто-то при моем появлении.
«Пусть хоженые, пусть все будет как есть, — внезапно принял решение Косицкий, — останемся здесь. Для женщины нужен покой. А победит есаул — помирать придется вместе…»
— Давай, жиночко, поможу… — поднял он и повел Катерину в дом. — Распряги коней! — приказал он Попову.
— У-у, хохлы! — пробормотал себе под нос Попов. — Распряга канальский!..
Он был зол на хохла. Но и боялся высказываться вслух: черт-те что теперь делать? Ни к Черенкову, ни к шахтерам носа не сунь. А с хохлом хоть болтаешься по «ничьей земле». Воевать, ясное дело, теперь не придется. В Благовещенку бы поскорее добраться. Но легко подумать — трудно в дверь постучаться…
Попов отпустил хомуты, вздрагивая при каждом орудийном выстреле. Запах конского пота, мокрой сыромятины и влажной соломы возвращал к прежней хуторской жизни, когда только и было, что конюшня, тишина, старые плетни и радость оттого, что собственный курень — рядом. Гляди, сосед забредет поговорить. Пристроишь ногу на теплой лежанке и слушаешь про войны, про разные страны, ярмарки, как будто это было с тобой самим — и войны, и страны, и ярмарки. Баба кряхтит, сердится, что долго керосин жгут. А что баба, она мужниных гостей не любит. Можно прикрикнуть, она и замолкнет. И тоже хорошо от возможности на кого-то кричать и безнаказанно сердиться. Ночь навалится смутной тишиной. Время потечет незаметно. Нет ни угроз, ни загадочных людей, ни хитромудрых речей насчет царя, атамана и большевиков. Все сводится к тревоге о погоде: когда сретенье, напился ли петух талой воды в этот день, хрюкнул ли кабан перед выездом в поле, что означало дурную погоду, да жарко ли закатывалось солнце на Купалов день, предвещая сушь на жатву. Земли достаточно. Земля давала и себе и на продажу закупщикам мукомола Парамонова. Кони, волы тоже есть.
Читать дальше