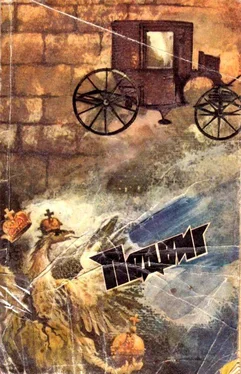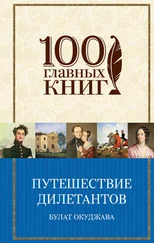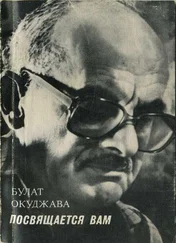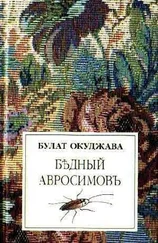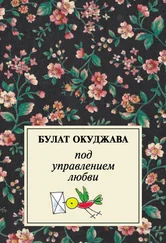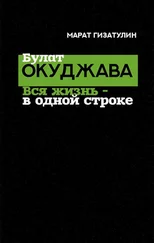Каким же даром надо обладать, чтобы перебороть эту досадную инерцию нашей памяти, одолеть духовную нашу близорукость и соединить в наших душах звенья разомкнувшейся цепи времен?!
Существует, очевидно, несколько разновидностей, несколько модификаций литературы, называемой исторической, несколько принципов подхода к истории.
Одни авторы, предпочитающие правду первозданного факта любой форме его образного домысливания и художественной интерпретации, озабочены по преимуществу только последовательным и кропотливым воссозданием былого в его документальной чистоте. Другие, напротив, не чувствуя себя скованными никакими изначальными обязательствами и фактографическими рамками, самозабвенно предаются свободному переосмысливанию минувшего, литературным импровизациям на историческом материале, имеющем обыкновенно целью возведения разного рода иносказательных, отвлеченно фантасмогорических конструкций.
Не станем оспаривать правомерность ни одного из этих подходов. Оба они — и строго научный, и отвлеченно-игровой, — каждый по-своему, плодотворны. Только… Только и тот и другой обращены все же более к читательскому разуму и любознательности или же фантазии и воображению, чем напрямую к нашему нравственному чувству, духовному зрению и слуху.
Нет, чтобы восстановить этические наши связи, этический контакт с прошлым, чтобы сделать опыт истории сегодняшним нашим опытом, мало лишь художнического мастерства, недостаточно и одного, пусть даже самого добротного и глубокого знания архивных материалов и документов. Тут нечто большее необходимо: «Мальчишкой, бывало, едешь зимою в трамвае, сложив ладонь трубочкой, дуешь, дышишь на махристое от инея стекло, пока не расплывется иллюминатор-пятачок, и, прильнув, видишь прохожих, пивной ларек, ломовиков, грузовик… Все это видел тыщу раз пешеходом, ан нет, глядишь словно бы впервые, радостным, обновленным оком… Архивное не прочитать надо, надо продышать, отогреть дыханием лед времени и разглядеть, расслышать…»
Так однажды определил свою писательскую сверхзадачу сам Юрий Давыдов: «отогреть дыханием лед времени». А для этого, несомненно, требуется дар универсальный, синтетический, органично сопрягающий в себе таланты исследователя и литератора. Немногие, очень немногие с полным правом могут считать себя его счастливыми обладателями — Юрий Давыдов из их числа.
Можно сказать, он писатель-однолюб, приверженец одного периода, одной эпохи отечественной истории. Но какой! Эпохи, в неразрывный, тугой узел разом стянувшей все социальные, экономические, политические и нравственные проблемы пореформенной России (и посегодня-то в своей совокупности еще далеко не до конца осмысленные и понятые), эпохи, питавшей воображение Толстого и Достоевского, Гаршина и Короленко и ставшей, по существу дела, исходным рубежом многих последующих трагедий и потрясений русской общественной жизни.
Конец шестидесятых-семидесятых годов прошлого века явился России периодом уже давно небывалых брожений. Это время массового хождения в народ, широкого «пропагаторства», многочисленных судов и казней и ответного народовольческого террора. По словам В. Г. Короленко, «печаль и гнев властно нарастали в душах… занимая первое место…».
Вот об этом периоде и его героях — народовольцах, демократах шестидесятых-семидесятых годов и написано большинство романов и повестей Юрия Давыдова. Перу писателя принадлежат выходившие в разное время «Глухая пора листопада», «Март», «На скаковом поле, около бойни…», уже упоминавшийся прежде роман «Соломенная сторожка (Две связки писем)» и переизданная ныне в «Подвиге» повесть «Завещаю вам, братья…».
В центре ее судьба известного революционера, одного из вдохновителей и организаторов «Земли и воли», а после ее раскола народовольца, человека легендарного темперамента, подвижника и бойца Александра Дмитриевича Михайлова. Даже беглого списания его короткой (Михайлов умер в марте 1884 года двадцати девяти лет, отбывая в Петропавловке пожизненное заключение), однако удивительно богатой событиями и деяниями яркой жизни, верно, хватило бы для создания предельно насыщенного, остро увлекательного повествования. Но это была бы все же увлекательность поверхностная, острота сугубо авантюрная. И Давыдов не был бы Давыдовым, довольствуйся он столь нехитрой однолинейной интерпретацией сложных духовных коллизий того времени, драматических борений и скорбей, направлявших искания, формировавших и ломавших характеры, определявших судьбы Александра Михайлова, его соратников и современников.
Читать дальше