Дуйнхар по-военному приложил пальцы к правому виску, зло стегнул коня нагайкой и крупной рысью поскакал под гору.
"Странный человек! — неприязненно думала Цэрэн. — Все еще пытается пыль в глаза пускать простым людям. И ведь он не один такой".
Цэрэн поднялась на перевал, соскочила с коня и уселась около древнего обо отдохнуть. В прежние времена путники, проезжая здесь, в почитание местных духов клали на обо камни и монеты.
Навстречу Цэрэн поднимался всадник с ружьем за плечами. Приблизившись, всадник спешился, поздоровался и, подсев, спросил:
— Откуда путь держишь, дочка?
— Из кооператива, дедушка Шараб. Кое-что купить надо было. А вы куда это собрались?
— Сват мой волка выследил. Еду к нему, утром отправимся на охоту. Вчера вечером сын приезжал с сенокоса. План у них в этом году громадный. А сенокосилки какие Советский Союз прислал! На сенокосных станциях советские люди научили наших косить и метать стога. А ведь что раньше ламы нам твердили? И землю пахать, и сено косить, видишь ли, нельзя — духи земли рассердятся, вредить начнут — темные времена были. Не зря говорится: старое лишь на подметки годится, а новое звездочкой горит.
Шараб вытащил из-за голенища трубку и закурил.
— Народ теперь не тот стал, — продолжал он. — Партия открыла аратам глаза. Хотели было ламы к старому повернуть, да не вышло. Не хватило у них соображения, что народ-то теперь поумнел, партии верит, за свою власть горой стоит, о молодом поколении думает. Да, время богдо и всех прочих святых прошло. Я потерял в них веру еще до революции, ты еще маленькой тогда была.
— Расскажите, дядя Шараб, как это было, — попросила Цэрэн. Она любила послушать бывалого старика. Шараб не раз с караванами до далекого Кукунора и Пекина доходил.
— А вот как. Хоть людям в старину и не всегда удавалось находить правильный путь, но жизнь-то заставляла до многого своим умом доходить. Мой отец был знаменитым охотником и местных лам не особенно жаловал. Потому что видел, как живут в монастырях святые отцы. Нара-нанчен-хутухту он терпеть не мог. Увидит его в степи с послушниками — в сторону свернет. Как-то, когда я уже подрос, он рассказал мне одну историю. Еще при маньчжурском императоре Гуан-сюе дело было. Нара-нанчен ехал по Улясутаю в фаэтоне в обнимку со шлюхой, пьяный. А везли святого отца пять голых проституток. Даже сам улясу-тайский наместник маньчжурского императора был сконфужен. Но ламы постарались замять этот неслыханный скандал. Они распустили слух, что все это, видите ли, померещилось грешным людям. По их мудреному толкованию выходило, что все это безобразие было чудом, которое святой творил на пользу религии и всего живого на земле. Они толковали, что у грешников глаза водянистые и видят они не то, что остальные. Услышал это отец и плюнул в сердцах. На охоте глаз его никогда не обманывал, в степи читал он каждый след, как по книге, а тут вдруг говорят, что глаза его видят не то, что есть на самом деле. С тех пор по всей Северной Монголии для отца остались только два святых: богдо-гэгэн и его учитель Ензон-хамба.
Как-то собрались люди из наших кочевий на богомолье в Ургу. Отец — тоже, и меня с собой захватил. Пусть, говорит, и сын мой поклонится живому богу.
В Урге мы остановились у земляков. Первым делом обошли все ургинские храмы. В монастырских храмах Ган-дана и Дзун-хурэна поклонились всем богам, в китайских лавках побывали. Хитро китайцы устроились в Урге. Куда ни пойдешь, всюду на них натыкаешься. Пойдешь в монастырь Гандан — китайская торговая слободка на самой дороге стоит, хочешь не хочешь, а завернешь. Идешь из Гандана — опять в лавку к купцам заглянешь: тут тебя и чаем угостят и леденцами. А за чаем, смотришь, купец и улестит тебя, и купишь у него чего-нибудь. Только выйдешь из слободки — рядышком монастырь Дзун-хурэн. Там трубы, барабаны грохочут — богомольцев зазывают. А вышел из монастыря — как на ладони вся торговая слобода Май-мачен. Глядишь, а за пазухой пусто: ламы — молитвой, купцы — бесплатным чаем все деньги выманили.
Побродили мы вот так-то по Урге день-другой, а потом стали к богдо-гэгэну на поклон собираться. Посоветовались богомольцы между собой и решили послать моего отца, как самого старшего, разузнать у приближенных богдо-гэгэна, каким манером можно получить его собственноручное благословение.
Отец собрался рано. Оседлал коня и поехал к Зеленому дворцу. Но только что-то уж больно скоро он оттуда вернулся. И сумрачный — темнее ночи. Его спрашивают, ну как, что, а он только рукой махнул. Ничего, говорит, не выходит. Мы ему: "Ну что ж, сегодня не вышло — завтра выйдет". А он нам: "Я, говорит, больше туда не поеду. Если, говорит, вам так уж хочется, можете сами попробовать". Больше его не стали спрашивать, только догадки разные строили, решили: не иначе как не поладил отец с привратниками. Человек он характерный, а придворные ламы, как известно, с простым людом не церемонились, обидели, видно, они отца, и теперь он ни за что не хочет идти к богдо-гэгэну за благословением. Так оно и получилось. Хотел было и пойти, но отец не пустил меня и только через много лет как-то рассказал мне, что с ним тогда приключилось. — Шараб снова набил трубку, глубоко затянулся и продолжал: — Как я уже говорил, отец отправился к Зеленому дворцу рано утром, город еще не просыпался. Отец заметил, как из ворот Зеленого дворца выехал лама. Поперек седла у него был перекинут какой-то длинный тюк. Оглядевшись кругом, лама погнал коня к Толе, как раз к тому месту, где река глубока и бурлива. Теперь это место Умахумом зовется. Подивился отец: зачем в такую рань туда лама едет? Подъехал он к дворцовой ограде, спешился, где положено простолюдинам, спутал коня и побрел к воротам. А там никого, даже привратника не видно. Постучаться отец не посмел. Как может простолюдин стучаться во дворец, куда и нойоны-то входят со страхом? Решил ждать, пока кто-нибудь покажется из дворца. А лама между тем подъехал к самому берегу, слез с коня, обвязал свою поклажу седельными тороками, зачем-то снял гутулы, подобрал полы дэла и, снова усевшись на коня, погнал его в реку. Отец никак в ум не возьмет: зачем лама в воду лезет? Решил последить за ним. А тот уж добрался до середины реки — вода коню по круп. Тут лама повернул коня по течению, развязал ремни, сбросил тюк в стремнину, а сам скорее на берег. Тюк, должно, тяжелый был, ко дну камнем пошел. Отца любопытство взяло. Погнал он коня навстречу, видит, и лама-то вроде знакомый, не раз в хошунном монастыре его видал. Слез лама с коня, чтобы обуться, никак в голенище ногой не попадет. Заметив отца, махнул ему рукой — вроде к себе подзывает. Отец подъехал, а на ламе лица нет, губы трясутся, слова выговорить не может. Потом едва слышно прошептал: "Никому не говори, что видел, если жизнь не надоела. Убийство тут произошло".
Читать дальше
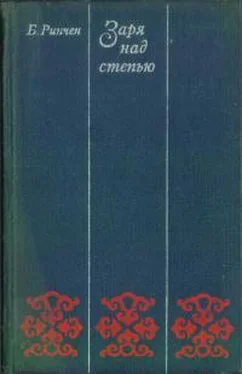


![Георгий Смородинский - Черное пламя над Степью [СИ]](/books/33946/georgij-smorodinskij-chernoe-plamya-nad-stepyu-si-thumb.webp)


![Федор Чешко - Между степью и небом [litres]](/books/398682/fedor-cheshko-mezhdu-stepyu-i-nebom-litres-thumb.webp)
![Георгий Смородинский - Черное пламя над Степью [litres]](/books/428746/georgij-smorodinskij-chernoe-plamya-nad-stepyu-litr-thumb.webp)



