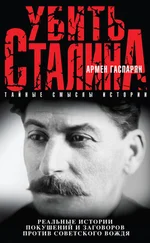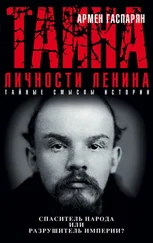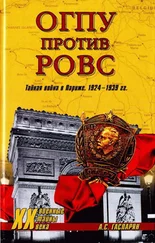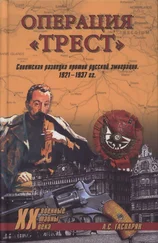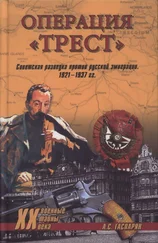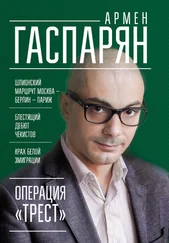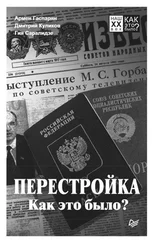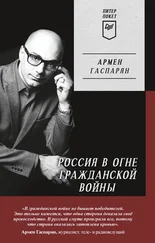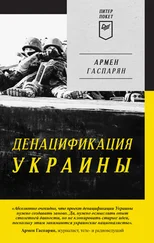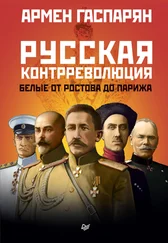Надо отметить, что в историографии Российский всезарубежный съезд не без оснований рассматривается как неудачный. Это связано с тем, что он не смог решить все задачи, которые стояли на повестке дня. Как совершенно справедливо писал Петр Врангель Никанору Савичу, одному из активных участников съезда, нужно продолжение. Было положено начало объединению русской эмиграции. Предполагался и следующий шаг, но он сделан не был.
До этого знаковым событием в среде русской эмиграции стал Рейхенгальский съезд, прошедший в Германии в мае-июне 1921 года и предполагавший объединение монархических сил русской эмиграции. Однако единственное, что смогло сделать это собрание, – учредить Высший монархический совет. Вместе с тем, например, важнейший вопрос о престолонаследии повис в воздухе. Его не удалось решить и в 1926 году в Париже.
После этого равноценного проекта по объединению русской эмиграции не было, создания нового правительства в изгнании не произошло. Но здесь не следует все сводить к великому князю Николаю Николаевичу, который рассматривался значительной частью русской эмиграции как потенциальный местоблюститель престола – или даже не потенциальный, а реальный. Складывается впечатление, что к тому моменту он был уже далек от политики. Возможно, это было связано с его возрастом и состоянием здоровья (спустя несколько лет после Российского всезарубежного съезда он скончался).
Анализируя события 1920-х годов, нужно также учитывать уровень политической культуры того времени. Политические образования, в основном экстремистского толка (или тоталитарного, прототалитарного типа с террористическим уклоном), вроде народовольцев, большевиков или эсеров существовали в нашей стране и до 1905 года. Это была традиция земства, причем относительно длительная. А вот партии в традиционном европейском смысле появились позже. Но вскоре после большевистского переворота 1917 года их история в России была фактически прекращена. В дальнейшем партии, которые еще не успели получить достаточного политического опыта и не имели соответствующей политической культуры, оказались в изгнании.
В качестве иллюстрации можно привести слова из воспоминаний посла Великобритании в России Джорджа Бьюкенена. Он описывал историю, произошедшую до Февральского переворота. Обедая с Павлом Милюковым, лидером партии кадетов, Бьюкенен спросил его: «Сэр, зачем вы сейчас раскачиваете лодку? Дождитесь окончания войны. И то, что вы сейчас требуете, может само естественным путем в течение десяти лет осуществиться, без всякого насилия, без каких-то политических дрязг». На что Милюков заносчиво ответил: «Я не намерен ждать десять лет». Бьюкенен, в свою очередь, сказал: «Моя страна ждала многого и сотню лет».
Конечно, можно условно говорить, что деятельность политических партий была ограничена во времени – с 1905 по 1917 год. Тот же П. Н. Милюков принял участие в составлении политической декларации в момент образования Добровольческой армии. В данном случае речь идет о периоде, когда партия существует в рамках государства и участвует в его политической жизни. После 1917 года партии оказались или в подполье, или в изгнании, или на территориях, контролируемых белыми армиями. Но это не были полноценные государственные образования.
Бытует мнение, что партии абсолютно не использовали в эмиграции опыт, полученный в годы Гражданской войны, а многие выступавшие на Российском всезарубежном съезде с докладами продемонстрировали, выражаясь словами В. И. Ленина, как они «страшно далеки от народа». Однако в предисловии к материалам съезда Александр Исаевич Солженицын совершенно справедливо указывает, что русские эмигранты, в отличие от эмигрантов французских, многому научились. Их представления о большевизме, о том, что происходило на территории Советского Союза, были вполне реалистичными. У них был также достаточно трезвый взгляд на будущее России. Предполагался отказ и от реституции, и от репрессий. Приведу цитату из документов съезда:
«Государственная власть должна предать забвению все имущественные преступления, совершенные в России в период революции. Причем никакого уголовного преследования за совершенный в период революции имущественный захват и разрушения не должно быть допущено. Земельный вопрос должен быть разрешен в соответствии с государственными интересами при подчинении таковым интересам частных и с укреплением при этом на твердых основаниях общего гражданского права, принципа частной собственности».
Читать дальше
![Армен Гаспарян Русская контрреволюция [Белые от Ростова до Парижа] [litres] обложка книги](/books/401152/armen-gasparyan-russkaya-kontrrevolyuciya-belye-ot-ro-cover.webp)