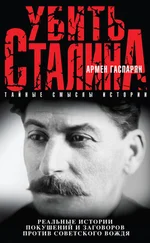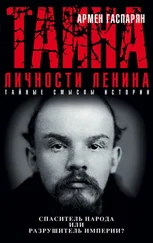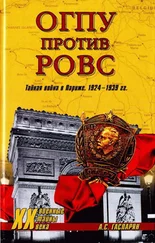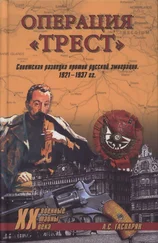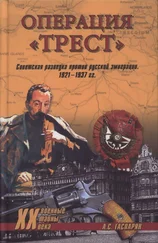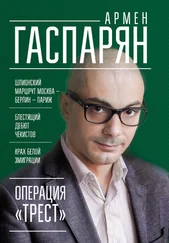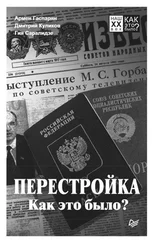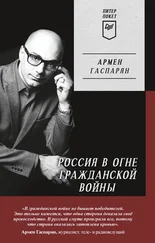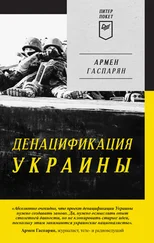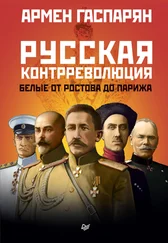В советских учебниках долгое время писали, будто Красная армия чуть ли не полуголодная и при полном отсутствии обмундирования отразила натиск вооруженных до зубов белогвардейских орд. Самое парадоксальное, что все происходило с точностью до наоборот. Часть советских военных историков давала правдивую информацию, как, например Николай Кокорин – бывший полковник Генерального штаба, впоследствии в качестве военного специалиста служивший в РККА. В своем фундаментальном двухтомном труде о гражданской войне в России, написанном, естественно, с просоветских позиций, он разбирал военные операции как добросовестный генштабист. Там неоднократно отмечается, что Красная армия имела не только численный, но и технический перевес над белыми. Прежде всего потому, что ей достались огромные запасы вооружений со складов старой Русской армии.
Отношение к событиям Гражданской войны в обществе колеблется: сначала вся страна выступала за красных, в 1990-х подавляющее большинство стало за белых. При этом о союзниках предпочитают вообще не вспоминать. Остается надеяться, что когда, наконец, улягутся политические страсти, при освещении событий Гражданской войны возобладает разумная, объективная точка зрения и союзникам будет отведено надлежащее место.
Безусловно, они оказали моральную и материально-техническую поддержку Белому движению в России. Но, во-первых, она была не безвозмездной и не альтруистической, а во-вторых, оказалась недостаточной по ряду причин. Главное – не следует ни демонизировать союзников, ни, наоборот, преувеличивать их роль. Нужно помнить, что у них были собственные интересы, но такова логика международной политики. В конце концов, единственным государством, которое признало правительство Верховного правителя адмирала А. В. Колчака в качестве всероссийского в период Гражданской войны, была маленькая Югославия…
Глава 16. Русский общевоинский союз в эмиграции
Русский общевоинский союз (РОВС) – русская воинская организация, созданная в 1924 году в белой эмиграции главнокомандующим Русской армией генерал-лейтенантом бароном Петром Николаевичем Врангелем. Девяносто лет назад именно эта структура считалась главным врагом советской власти.
Все началось 1 сентября 1924 года. Приказ П. Н. Врангеля гласил, что все воинские объединения, которые пожелают войти в союз, будут в него приняты. Среди эмиграции того времени не было идейного единства, поэтому не все отнеслись с энтузиазмом к призыву Врангеля сплотиться под началом РОВСа. Один из отделов организации работал на Дальнем Востоке, некоторое время его возглавлял генерал А. С. Лукомский, стоявший в ряду основоположников белой борьбы. Его сменил генерал М. К. Дитерихс, с именем которого связана организация Приамурского земского собора – православно-монархического собрания представителей Русской земли. Фигура Дитерихса воплощала более или менее официальную власть, он был земским воеводой.
Действовали на Дальнем Востоке и казачьи подразделения, и атаман Г. М. Семенов, и разрозненные части каппелевцев. В общем, существовало многообразие мнений, идеологий – и меньшая часть этих воинских объединений, а также отдельных выходцев из России стремилась войти в РОВС.
С начальниками отделов Русского общевоинского союза сложилась достаточно интересная ситуация. Подразделения организации зачастую возглавляли личности, полярные с точки зрения тактической активности. Общеизвестно, что центром русской эмиграции являлся Париж, воспетый и советской литературой, и советским кинематографом. Одно время отдел РОВСа в этом городе возглавлял генерал П. Н. Шатилов. С одной стороны, как совершенно справедливо заметил общественно-политический деятель русской эмиграции, журналист и редактор ряда русских зарубежных газет и журналов Борис Витальевич Прянишников, на него переходила благодать Петра Николаевича Врангеля. С другой стороны, по активности эта личность несопоставима ни с начальником третьего отдела генералом Ф. Ф. Абрамовым, ни с начальником четвертого отдела генералом И. Г. Барбовичем. Зато в какой-то степени Шатилова можно было сравнить с генералом А. А. фон Лампе, возглавлявшим второй отдел.
Многие совершенно справедливо расценивали Павла Шатилова как близкого друга Петра Врангеля. В этом союзе он был ведомым, хотя, безусловно, никто не отрицает его воинских заслуг. В политическом плане назначение Шатилова было попыткой не подставить РОВС под критику какой-то из политических сторон – монархистов или демократов. Шатилов всегда высказывался очень осторожно – его можно было назвать дипломатом. Недаром Врангель направил его на Балканы вести переговоры с тамошними правительствами, потому что из генералитета, окружавшего главнокомандующего, именно Павел Николаевич обладал необходимой гибкостью и политическим тактом. Если вспомнить дипломатические диалоги того времени между советским и западными правительствами, в основном это были ноты, ультиматумы, громкие заявления и даже обещания стереть друг друга в порошок. Поэтому тактичность Шатилова в этой ситуации была весьма кстати.
Читать дальше
![Армен Гаспарян Русская контрреволюция [Белые от Ростова до Парижа] [litres] обложка книги](/books/401152/armen-gasparyan-russkaya-kontrrevolyuciya-belye-ot-ro-cover.webp)