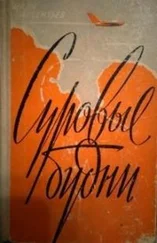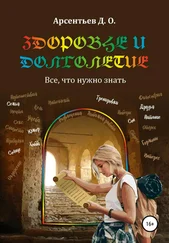Закоренелые преступники не помнят своих жертв. Но Анну-девочку Кикин не забыл, и тягостное чувство нависшей угрозы мести не оставляло его годами. Теперь, увидев Анну, идущую безбоязненно и, как ему казалось, надменно посреди улицы с красным флагом в руках, он заскрипел зубами. И вот этаким-то дарована свобода! А его, патриота, опору империи, загнали, как пса затравленного, в чужой двор!
В горле Кикина туго напряглась какая-то жила. Он мгновенно вспотел, даже сорочка прилипла к телу.
— Гадюка! — прошептал он и сунул ствол револьвера в дырку от сучка, оглядываясь на дальний угол двора, огороженный низким забором. С тем же жестоким наслаждением, с которым мучил когда-то девочку, сторговав за триста рублей у родного отца, он ожидал ее приближения к черте, которую мысленно провел поперек улицы. Ожидал со сладострастьем, обостренным сознанием безнаказанности. Он навел револьвер на левую грудь Анны, прикинув многоопытным глазом, в каком месте находится сосок, опустил мушку на три пальца туда, где сердце ее отстукивало последние удары, и хладнокровно спустил курок.
Отдачей револьвер отбросило назад. Кикин в три прыжка оказался в углу двора возле мусорного ящика, вскочил на него и перемахнул через ограду. Выглянул из подворотни на параллельную улицу — там было спокойно. Только заходилась лаем собака, встревоженная выстрелом. Расстегнув поддевку, Кикин вынул из кармана несколько листков, отделил один из них, наколол на гвоздь, торчащий на воротах с улицы, и ушел неспешной походкой вконец утомленного человека.
На лай собаки выглянул хозяин, увидел листок на воротах, прочитал накарябанное от руки:
«Лутчи носу не показывайте на улицу. Мы народ православный и за Царя постоим за батюшку и будим вас бить и калатить как нипапало. Лутчи раньши одумайтесь желаем вам от души».
А пониже грозного предупреждения — рисунок пером: могильный холм с крестом и надпись —
«Стюдентам и вообче всем, которы против Царя».
Прошла неделя после смерти Анны, и Евдоким немного отошел. Вначале, когда-по возвращении из Уфы ему сказали о несчастье, он принял это за глупую самарскую шутку. А спустя час стоял наг Всесвятском кладбище возле свежей могилы совершенно потрясенный. Холодный ветер ударял в лицо, раскачивал поникшие безлистые ветви деревьев, а он стоял и глядел на новый оструганный крест, на венки с цветами из отсыревших крашеных стружек. В полуверсте на станции гукнул паровоз. Евдоким вздрогнул, в глазах его потемнело. Он протянул руки вперед, как будто собираясь коснуться ласково кого-то, но ощутил лишь мокрый холод перекладины креста под пальцами.
— Аннушка!.. — простонал он и отдернул руку, цепенея от горя. Оно раздавило все его чувства, и все кругом остановилось, застыло. Только снежинки кружились — мелкие и колючие. Поземка сметала их, срывала с синеватой глины холмика жидкие черно-белые струйки. Евдоким прислушивался к земле. Ему слышался в глубине голос той, которую он никогда не увидит. Голос звучал ласково и печально: «Доня, сын будет… Чую…» Голос тосковал и жаловался, что нет, не увидать света новой жизни. Унылое подвывание ветра в покосившихся крестах заглушало шепот земли. Евдокиму хотелось прижаться к ней щекой, чтобы слышать ближе родной голос. Он опустился на колени.
Нет, не умерла Анна, сердце и сейчас полно ею. Он видит ее неутомимые руки — белые, будто насквозь промытые щелоком, руки, не баюкающие свое дитя, горячие руки, обнимавшие его, Евдокима. Он видит ее глаза: настоящие, живые, похожие на седые ягоды терна, видит милые веснушки на переносице и тяжелые бедра, созданные для долгого материнства. Горе сдавило, пригнуло его к земле. Тоска… Тоска…
Все последующие дни с утра до вечера он ходил и ходил по улицам, ходил без цели, никого и ничего не видя перед собой. Он машинально пересекал город, втыкался в серую холодную Волгу и поворачивал обратно все по той же Алексеевской улице, все к тому же Всесвятскому кладбищу, к дубовому обструганному кресту с выжженной раскаленным гвоздем надписью: «Род. 1884 — пох. 1905».
Вечерами Евдоким приходил к Шуре Кузнецову, ложился в тесной комнатушке на топчан и лежал без сна, словно в густых тучах. Кузнецов не докучал ему, но уже то, что надо с кем-то говорить, видеть людей, занятых своими будничными делами, изводило Евдокима.
А кругом кипели страсти, шумели демонстрации. Манифест, как острый кол, вошел в тело революции и расколол его. Могучий поток в короткое время разветвился, распался на отдельные, чуждые друг другу ручьи, и каждый свернул в свою сторону, нащупывая собственное русло. Революция сталкивала людей: объединяла одних, сводила тяжелые счеты с другими. Но даже эти толчки извне не разгоняли глухой апатии Евдокима.
Читать дальше